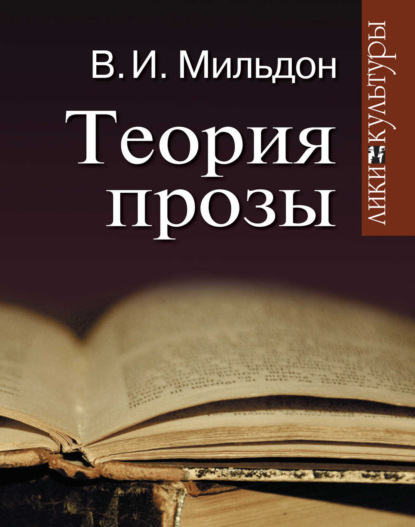
Полная версия:
Теория прозы
Самым неожиданным образом эти слова совпадают с наблюдением Пушкина. В статье «О поэтическом слоге» (1828) он писал: «Мы не только еще не подумали приблизить поэтический слог к благородной простоте, но и прозе стараемся придать напыщенность» (5, 49).
Пушкин думает о том, чтобы найти для прозы ее язык, прозаический, и уйти от не свойственного ей поэтического. Как бы ни относиться к этим словам, ясно, речь идет о неких двух тенденциях развития словесного искусства, причем обе – если мысль Пушкина включить в контекст вышесказанного – носят, во-первых, постоянно-периодический характер, а во-вторых, не зависят от социально-исторических процессов.
В этой связи напомню определение гностицизма как пророчества новоевропейского романтизма44. Ничто не мешает, следуя этой формуле, переназвать гностицизм романтизмом II–III вв. н. э. В таком случае традиционные для эстетики понятия романтизма, реализма, барокко и пр. приобретают содержание, отличное от принятого. Опять вынужден цитировать. «…V и IV века в Греции, и в особенности эпохи Перикла, являются классическими, ибо представляют собой… кульминационное выражение культурного развития Греции. Однако следует помнить, что классическими являются и другие культуры, совершенно не похожие на культуру времен Перикла. Готическая культура ХIII века также является классической, ибо представляет собой зрелое выражение средневековья, тогда как первая античности». «Древность не сразу стала зрелой…, она имела также свои столетия барокко и романтизма»45.
«Свои барокко и романтизм»… Едва ли не то же писал упомянутый Г. Вёльфлин, заметив, что искусство барокко родственно некоторым течениям культуры новейшего времени46.
В статье 1913 г. «О происхождении гуманизма», где речь шла об истоках, историческом и духовном содержании общеевропейского Ренессанса, начавшегося в Италии, К. Бурдах писал: «…Если уж применять к Ренессансу современные определения, его следовало бы назвать романтической реакцией на схоластический рационализм»47.
Не значит ли это утверждение, что нет исторически фиксированных романтизма, реализма и пр.; что эти понятия, которые частенько рассматривают в качестве одной из характеристик строго определенных эпох, в художественной действительности выражают волновые, возвратные процессы?
Мысль об этом появлялась не однажды у самых разных умов. В «Приготовительной школе эстетики» [1804] Жан-Поль сделал несколько наблюдений, позволяющих – особенно в сочетании со сказанным после него – утверждать, что привычное деление истории искусства на последовательно сменявшиеся направления по крайней мере не обязательно:
«Кто же породил романтизм? Не во всякой стране и не во всякий век рождала его христианская религия <…> Два романтических рода, не ведающих христианства, чуждых друг другу по климату и воспитанию, – род индийский и род Эдды <…> Романтизм Индии заключен в круг религии, которая одушевляет всё <…> Поэзия Востока родственна не столько греческой, сколько романтической поэзии <…> должна была сблизиться с романтической поэзией и развиваться именно так, что родственное ей христианство догнало и затем усовершенствовало ее»48.
Спустя сто лет это соображение подтвердил немецкий филолог, рассуждая о картинах Ада в «Комедии» Данте:
«Над адскими ландшафтами и адскими муками тяготеет слава, которой был обличен Данте в романтические эпохи и которая еще и сегодня – не вовсе незаслуженно – определяет суждения о нем широкой публики; и эти же описания служат причиной того отвращения, которое испытывали к Данте ограниченные времена классицизма. В конечном счете и то, и другое отношение рождено непониманием. Фактически именно Данте является основателем романтизма, и эстетическое представление о возвышенности ужасного и гротескного, некая призрачная готика, было порождено именно его творением»49.
«Романтические эпохи», «времена классицизма» – множественное число не случайно, поскольку явления, определяемые этими понятиями, чередуются, и, повторяю сказанное, у каждого времени свои романтизм, классика и пр.
Наблюдения немецких исследователей подтвердил русский: «Связь литературы ХХ в. с литературой барокко приняла в разных странах разные формы… В одних случаях такая связь обнаруживает себя в сознательной ориентации на художественное наследие ХVII в. (например, реабилитация Гонгоры испанскими поэтами 1920-х годов), в других существовала скрыто, как… это имело место в России…»50.
Тот же автор, сопоставляя барокко и русский футуризм, прибавляет: «…Эти художественные системы сходно отражали разные исторические реалии»51.
Годом раньше два французских историка эллинизма утверждали: «Невозможно отрицать самобытности эллинистической цивилизации: достаточно сравнить пергамский Акрополь с афинским, историю Полибия с историей Фукидида, стоицизм с платонизмом и классику Перикла с “барокко” (в полном смысле) Антиоха Эпифана». «Эллинистическая цивилизация не имеет ничего общего с упадком, и ее нельзя трактовать как переходный, смутный и хаотический период между греческим классицизмом и могуществом Римской империи. Она как барокко античности …будет находить своих почитателей…»52
Нечто похожее писал другой французский эллинист, П. Левек, говоря о греческом искусстве в эпоху эллинизма: «Нет стилей, которым бы оно не следовало: от пергамского романтизма до барокко некоторых александрийских рельефов. И всегда оно оставалось греческим»53.
Ну, и еще одна цитата.
В статье «Романтизм, символизм и декадентство» М. Гофман писал: «Мы переживаем эпоху, которую лучше всего определить именем романтизма. Нетрудно увидеть, при тщательном анализе, что романтическою эпохой является не только конец ХVIII и начало ХIХ-го века, но и ХVIII век, и ХIV-ый, и Х-ый, и конец ХIХ-го века, эпоха – современная нам»54.
Романтизм, полагает Гофман, возникает, «когда кончается какая-нибудь эпоха и подводятся ее итоги»; когда появляется неудовлетворенность настоящим и предчувствие грядущего. «Романтизм такого рода был во все времена у всех народов». «Романтизм Х века положил грань между языческою и христианскою эпохами русской истории, как романтизм ХVII века положил грань между Москвой ХVI века и петербургским периодом ХVIII века»55.
Примерно в это же время (самое начало второго десятилетия ХХ века) и совершенно по другому поводу другой русский автор, П. П. Муратов, высказал родственное наблюдение, стоя под изображениями одной из церквей Падуи, о старом итальянском искусстве:
«Живопись ХIV века после Джотто только и делала, что повторяла и популяризовала Джотто. Новая эра в искусстве наступила вместе с гениальными достижениями Донателло и Мазаччио. На этом примере видно, насколько неверным оказывается очень распространенное представление об истории искусства как о непрерывной цепи, в которой каждое последующее непременно связано с предыдущим. Мы ближе подходим к истине, когда наблюдаем искусство в пределах одного цикла, – одной школы, одной эпохи»56.
Скорее всего, неслучайное наблюдение, ибо всего через несколько лет упоминавшиеся участника ОПОЯЗа придут к сходным соображениям о законах движения форм в искусстве.
В «Анне Карениной» есть сцена, где персонажи обсуждают новую иллюстрацию Библии.
«Воркуев обвинял художника в реализме, доведенном до грубости. Левин сказал, что французы довели условность в искусстве как никто и что поэтому они особенную заслугу видят в возвращении к реализму. В том, что они уже не лгут, они видят поэзию. <…>
Лицо Анны вдруг все просияло, когда она вдруг оценила эту мысль. Она засмеялась.
– Я смеюсь,– сказала она, – как смеешься, когда увидишь очень похожий портрет. То, что вы сказали, совершенно характеризует французское искусство теперь, и живопись, и даже литературу: Zola, Daudet. Но, может быть, это всегда так бывает, что строят свои conceptions из выдуманных, условных фигур, а потом – все combinaisons сделаны, выдуманные фигуры надоели, и начинают придумывать более натуральные, справедливые фигуры.
– Вот это совершенно верно! – сказал Воркуев» (ч.7, гл. Х).
Следовательно, названные совпадения объясняются не историческими условиями, а отношением к материалу, условиями искусства, а посему вышеупомянутые понятия – классицизм, романтизм и пр. – не имеют конкретного исторического смысла; их явление связано не с хронологически-последовательным развитием истории, а с циклическим движением художественных форм: в разные периоды то одна, то другая. Традиционные понятия приобретают значение терминов, характеризующих принципы работы с материалом, из чего следует, что, вероятно, любое национальное искусство имеет свои реализм, романтизм, модернизм и т. д. «…В поздней древности, в средние века и в новое время классические периоды возвращались как время совершенства и умеренности. Так было у римлян в царствование Августа, у франков в правление Карла Великого, во Флоренции… Медичи»57.
Задолго до русского теоретика похожие наблюдения сделал Ф. Шиллер. В трактате «О наивной и сентиментальной поэзии» (1795) он писал:
«…Восприятие наивного и интерес к нему, конечно, гораздо древнее и должны быть приурочены к самому началу морального и эстетического упадка. Такое изменение в способе восприятия бросается в глаза, например, уже у Еврипида, если сравнить его с предшественниками, особенно с Эсхилом <…> Хвалу спокойному блаженству воздает в своем Тибуре поэт культивированного и испорченного века – Гораций; его можно было бы назвать истинным родоначальником сентиментальной поэзии… Признаки такого рода восприятия есть также у Проперция, Вергилия и других, меньше у Овидия…»58.
Иными словами, существующая в общей эстетике (включая литературоведение) терминология определяет явления, причину возникновения/исчезновения которых надлежит искать не в духе времени и/или его переживаниях, а в законах развития самой художественной формы, в ее внутреннем содержании, а не во внешних признаках эпохи. «…Не из чувства, а из формы изображения должно быть выведено расчленение поэзии на виды»59.
Как раз эти формы и подчиняются действию упомянутых возвратных колебаний. Сравнительно недавно эта мысль нашла новое подтверждение.
В 1985 г. В. Н. Топоров в статье «К вопросу о циклах в истории русской литературы» предложил – для выяснения законов литературного движения – понятие «циклизации»: «…Циклы оказываются более емкой рамкой, чем направление, школа, стиль. Главный нерв понятия циклизация… в том, что можно назвать «узлом» цикла. <…> Реально такие узлы характеризуют переходные эпохи…» «Русская литература рубежа ХVII–ХVIII вв. по начало ХХ в. – исключительно удобный материал для опытов историко-литературной циклизации»60.
Я разделяю этот взгляд, в сущности, давно сложившийся, как показал только что сделанный беглый обзор, и дальнейшая работа должна состоять в том, чтобы рассмотреть действие названного закона возвратного чередования (цикличности) на материале русской литературы. Одним из его проявлений является чередование стиха и прозы, в соответствии с чем нахожу, как и В. Топоров, в развитии русской литературы три эпохи.
1) Конец XVIII – 20–30-е годы ХIХ в., когда в отечественной словесности безраздельно господствует стих; на смену ему приходит проза и оттесняет стих примерно до начала 90-х годов ХIХ в. 2) С 90-х годов ХIХ в. до второй половины 20-х годов ХХ в. интерес к стиху возвращается. 3) С 30-х годов до конца 90-х проза вновь вытесняет стих.
Разумеется, это не жесткие датировки, однако те законы, о которых думали морфологи, неизменны, и всякое новое литературное поколение дает подтверждающий материал. Его хронологические границы подвижны, хотя и не беспредельно.
Что касается последних двадцати лет, о них следует сказать особо, поскольку сталкиваемся с необычной культурной ситуацией: в отечественной литературе этого времени обнаруживаются признаки и стиховой (работа с языком) и прозаической эпох (интерес к конструкции). Об этом речь впереди.
Вышеприведенные соображения дают повод рассматривать, например, оду и элегию, повторяю, не как определения лирических жанров, но в качестве характеристики языковых (стилистических) процессов, периодически чередующихся. То же, полагаю, справедливо и по отношению к терминам сентиментализм, романтизм, реализм, барокко и пр. Они могут существовать в каждую эпоху, ибо это не исторические, а стилевые характеристики. Явления, ими обозначаемые, то приходят, то уходят, подчиняясь закону циклического чередования художественных форм.
На это обратил внимание В. М. Жирмунский в рецензии на книгу Б. М. Эйхенбаума «Мелодика стиха» (Пг., 1922). Изложу его взгляды с небольшими комментариями от себя.
Символисты стремились передать значения напевами, музыкой – отсюда и «мелодичный» характер их лирики (Бальмонт, молодой Блок), и новая манера чтения стихов с подчеркиванием элементов ритмического и мелодического воздействия, заменившая логическую декламацию. Невольно напрашиваются аналогии из истории поэзии. Немецкие романтики любили повторять слова своего учителя Л. Тика: «Любовь мыслит сладостными звуками, рассуждения ей не подобают» (“Liebe denkt in süssen Tönen, denn Gedanken stehn zu fern”)»61.
Исследователь, таким образом, предполагает универсальный характер законов, частным случаем которых является творчество русских символистов и пришедших им на смену акмеистов, осознанно отказавшихся от напевности и мелодичности. Такова, в качестве частного случая, лирика Ахматовой с преобладанием разговорной интонации и обыденной лексики.
Жирмунский заключает: имеем дело с устойчивым в истории литературы феноменом чередования двух типов искусства – романтического и классического. «Различие двух стилей – напевного, эмоционального и вещественно-логического, понятийного я обозначил… как типологическую противоположность искусства романтического и классического»62.
За два года до этой рецензии на книгу Эйхенбаума, подтвердившую, считает рецензент, циклически возвратный, а не поступательный характер взаимоотношений классического и романтического, Жирмунский написал статью «О поэзии классической и романтической», где подчеркивает, что пользуется сложившейся терминологией для разговора «не об историческом явлении в его индивидуальном богатстве и своеобразии, а о некотором постоянном, вневременном типе поэтического творчества».
Романтическим в современном ему искусстве Жирмунский считает символизм и футуризм, классическое представлено акмеизмом63.
Подобный взгляд опровергает сложившееся (историческое) отношение (классицизм–романтизм–реализм), хотя задолго до В. Жирмунского эта мысль была высказана А. Бестужевым-Марлинским в рецензии (1833) на роман К. Полевого «Клятва при Гробе Господнем»:
«Надобно сказать однажды навсегда, что под именем романтизма разумею я стремление бесконечного духа человеческого выразиться в конечных формах. А потому я считаю его ровесником души человеческой…»64.
Пусть эта мысль и не подтверждает прямо того, о чем я веду речь, она все же свидетельствует об отношении к романтизму как внеисторическому (в границах принятого в нашей науке взгляда) явлению.
Как бы ни отличались поэзия и проза, они всегда взаимодействуют. Этой взаимностью объясняется циклическое чередование эпох поэтических и прозаических. В эпоху поэзии больше заняты языком, в эпоху прозы – построением, конструкцией. Последняя не играет такой роли при организации стихотворного текста, у него свои организаторы: ритм, метр, рифма. Проза в эпоху поэзии больше занята малыми формами: рассказ, новелла, повесть. Они являются своего рода шагом от стиха к прозе.
Так было в первые десятилетия ХIХ в. Стихотворное искусство уже создало свой язык, и потому новую русскую прозу создавали поэты, а те, кто впоследствии вошли в литературу как прозаики, начинали свои карьеры поэтами (А. Вельтман, Н. Гоголь, И. Тургенев).
Повторяю, такого рода взаимодействия носят циклический характер и не зависят от исторических (социальных, политических и пр.) условий, т. е. от содержания – от того, о чем написано. Русские морфологи понимали эту связь без каких-либо оговорок:
«Искусство живет на основе сплетения и противопоставления своих традиций <…> Никакой причинной связи ни с “жизнью”, ни с “темпераментом”, ни с “психологией” оно не имеет»65.
Для чего нужно изучать (устанавливать) упомянутые законы? Чтобы в историко-литературных и критических суждениях преобладали не описания, не личные предпочтения критика, но объективные оценки, не зависящие от вкусов критика/историка литературы/исследователя (насколько это возможно при анализе художественного материала).
Полагаю, одной из важнейших причин роспуска ГАХН (Государственной академии художественных наук) в 1929 г. и сворачивания всей морфологической работы в нашей эстетике было как раз стремление новой науки к объективности в изучении искусства, вне идеологических и каких угодно внехудожественных пристрастий.
Задачу нижеследующего я вижу в том, чтобы, пользуясь достигнутым русскими морфологами и современными исследователями, продолжить уточнение (формулирование, применение) законов развития словесности, в частности, прозы. Это, по моему разумению, должно дать основания (или: расширить основания, доставшиеся от морфологов) к объективному (с выше сделанной оговоркой) изучению современной русской словесности и созданию истории русской литературы, учитывающей законы словесности.
История и теория литературы потеряли бы всякое значение, кроме справочного, не давай они ответа на вопрос, какой всегда задает текущее состояние словесности.
И замечание в сторону. По тому, когда в России появляются исследования, пафос которых – законы художественной формы, наука о художественном, можно судить о содержании переживаемого времени: с ослаблением (или исчезновением) идеологической всеобязательности (какой бы та ни была) растет интерес к морфологическим законам, и наоборот.
Введение
Язык и композиция
Отечественные критики XVIII и примерно до начала 20-х годов ХIХ в., рассуждая о литературе, почти всегда имели в виду поэзию, а не художественную прозу. К последней относились пренебрежительно. В «Письме о чтении романов» (1759) А. Сумароков говорит: «Чтение романов не может назваться препровождением времени, оно погубление времени». «Пользы от них мало, а вреда много». «Я исключаю Телемака [роман Ф. Фенелона “Приключения Телемака”, 1694. – В. М.], Донкишота и еще малое число достойных романов»66.
Сумароков делает исключение для «Дон Кихота» потому, что в этой книге видит осуждение романов; а Н. Новиков, издавая сочинения Сумарокова, обращается не к любителям чтения, а к любителям учености, поскольку роман (проза) все еще не стал предметом литературы.
Так смотрел не один Сумароков. За пятнадцать лет до него почти то же говорил Ломоносов. В «Кратком руководстве к красноречию» (между 1744 и 1747 гг.) он так определяет романы: «Пустошь, вымышленная от людей, время свое тщетно препровождающих, и служат только к развращению нравов человеческих и к вящему закоснению в роскоши и плотских страстях»67.
Наконец, Карамзин признается: «…Как я люблю Руссо и с каким удовольствием читал… его “Элоизу”! Хотя в сем романе много неестественного, много увеличенного – одним словом, много романического…»68.
Для Карамзина романическое и неестественное – безоговорочные синонимы, и в другом месте «Писем» он почти повторяет: «Везде [у французских драматургов. – В. М.] смесь естественного с романическим…»69.
Сейчас такое отношение вполне понятно: в отечественной словесности все еще господствовала поэзия, и развитие литературы ХVIII – начала ХIХ в. оценивалось современниками по развитию стихотворной речи, а не прозаической.
В «Наставлении хотящим быть писателями» (1774) А. Сумароков под писателями разумеет переводчиков и поэтов. Прозаик еще не осознается писателем. В 1772 г. выходит первое издание «Опыта исторического словаря о российских писателях» Н. И. Новикова. Каждая статья начинается указанием службы автора, и только потом говорится о его литературных занятиях, причем в некоторых случаях к собственно литературе персонажи словаря не имеют отношения: «Федоров Илья, коллежский секретарь и Московского Университета бакалавр, сочинил математические наставления и перевел Гейнекциеву Философию… Умер в Санктпетербурге в 1770 г.»70. Или: «Бринцкой Тимофей. Из сочинений сего писателя осталась известною одна только книга, содержащая в себе Описание огнестрельной науки, с фигурами, напечатанная в Москве 1720 г.»71. В словарь попал известный тогда историк Г. Г. Миллер. Даже изобретатель Иван Кулибин перечислен среди писателей: «…Нижегородский купец, ныне при Императорской Академии наук механик <…> Сочинил стихами две оды и кант…, которые довольно изрядны, а паче в рассуждении его неупражнения в стихотворстве…»72.
Иными словами, стихи потому хороши, что написаны не поэтом. Для Новикова тот писатель, кто пишет.
Впрочем, естественно, понятие «искусства слова» только-только входило в оборот, занятия литературой еще не стали профессией, писателями считались все писавшие, независимо от содержания, и поэты, представлявшие наиболее развитую тогда область словесного творчества. Одно из рассуждений «К немысленным рифмотворцам» упомянутый Сумароков заканчивает: «Но что еще больше портит язык наш: худые переводчики, худые писатели, а паче всего худые стихотворцы».73
Это и понятно: самый совершенный язык той поры – язык стиха, поэтому словесность – это прежде всего поэзия, и порча стиха – это урон всей словесности.
Вот как оценивал в 1823 г. А. А. Бестужев недавнюю эпоху отечественной литературы: «Поповский, первый после Ломоносова, писал чистою прозою». Что же именно? «Перевод “Опыта о человеке” Попа…»74
Речь, следовательно, идет об отыскании отечественных эквивалентов иностранной лексике – собственный прозаический язык только формируется. В статье 1824 г. «О причинах, замедливших ход нашей словесности» А. С. Пушкин писал: «…Проза наша так еще мало обработана, что даже в простой переписке мы принуждены создавать обороты слов для изъяснения понятий самых обыкновенных…» (5, 12).
А. С. Шишков называет свою книгу «Рассуждения о старом и новом слоге российского языка» (1804). Второе издание выходит в 1818 г. – проблема слога все еще актуальна. Сколько ни появлялось в 20-е и даже в 30-е годы теорий словесности, все они занимались стихотворной речью, уже имевшей терминологию, правила, традицию. Проза еще не стала объектом анализа.
Действительно, самые известные на протяжении ста лет, с 1735-го до 1836 г., теории были теориями стиха: В. К. Тредиаковский. Новый и краткий способ к сложению российских стихов (1735) [в этом сочинении он пишет: «Желание сердечное…, чтоб и в России развилась наука Стихотворная»75]; М. В. Ломоносов. Письмо о правилах российского стихотворства (1739); А. Д. Кантемир. Письмо Харитона Макентина к приятелю о сложении стихов русских (1743); А. П. Сумароков. О стихотворстве (1747); А. Х. Востоков. Опыт о русском стихосложении (1812); Н. Ф. Остолопов. Словарь новой и древней поэзии (1821); С. П. Шевырев. Теория поэзии (1836). Как видим, о прозе ни слова.
Впрочем, нужна оговорка. Один из названных критиков, сам поэт, писал: «Проза – есть обыкновенный язык, которым говорят люди; в ней нет ни размеров, ни рифм, находящихся в стихах <…> Прозе не поэзия противополагается, а стихосложение»76.
Автор чувствует, что у поэзии и прозы разные языки (стихосложение и «прозосложение»), но еще не додумывается до понятия художественной прозы, хотя близок к нему, ибо определяет роман как сочинение в прозе, где описываются происшествия военные, любовные или волшебные77.
По сравнению с оценкой романа Сумароковым, здесь иной взгляд: роман (а с ним и проза) признан особой литературной формой, пусть в «Словаре» Остолопова нет о ней ясных представлений. Все же его труд можно считать шагом вперед на пути освоения новых для российской литературной теории понятий. Незадолго до его «Словаря» вышла книга И. Борна «Краткое руководство к российской словесности». В небольшой главе «О разных родах прозаических сочинений» (три четверти которой заняты текстом речи московского митрополита Платона при коронации Александра I) роману посвящено тринадцать строк десятистраничного объема главы: «Роман есть повествование о разных приключениях в жизни человеческой произойти могущих, и, имея целию наставление, должен образовать и украшать разум и сердце. Роман представляет нам картину жизни человеческой. В нем не всегда описываются истинные происшествия; чаще он не иное что есть, как скопище разнообразных вымыслов…»78.



