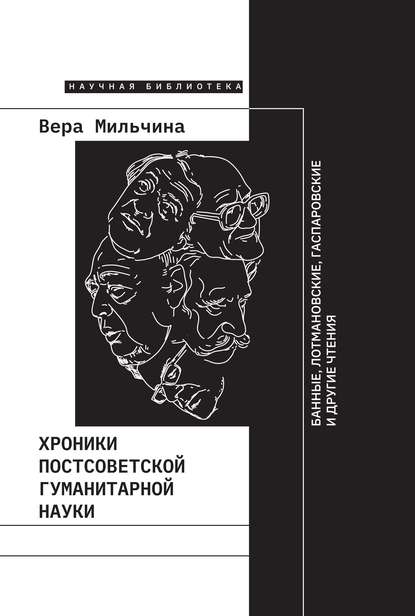
Полная версия:
Хроники постсоветской гуманитарной науки
Иными словами, оказалось, что конфликта между серьезным и шутливым можно избежать; это, впрочем, уже доказала выпусками своих… номеров (прошу проставить нужную цифру в зависимости от того, в каком номере будет напечатан этот материал) редакция «НЛО», которую хвалить на ее же собственных страницах, конечно, неприлично, но и не хвалить не позволяет мне природная правдивость.
По поводу атмосферы Банных чтений читателю придется поверить мне на слово, что же касается их интеллектуального и научного уровня, то надеюсь, что те, кто не доехал до Музея Сидура, смогут получить об этом уровне хотя бы некоторое представление из вынужденно лаконичных резюме, которые я расположу в том же порядке, в каком были прочтены доклады на протяжении этих двух дней – 21 и 22 июля 1993 года.
Первые Банные чтения были тематическими, и тема эта была сформулирована следующим образом: «Парадоксы литературной репутации» (в ходе конференции, впрочем, было решено, что уместнее здесь было бы множественное число: «Парадоксы литературных репутаций»).
Конференцию открыл доклад Андрея Зорина «Как начинались „Православие, самодержавие и народность“»[66]. Обрисовав своеобразие рассматриваемого случая (репутация есть, ибо все знают о триаде, предложенной С. С. Уваровым, а текстов практически нет, ибо сочинений Уварова, где упоминается прославленная формула, крайне мало, да и те были напечатаны много позже создания), Зорин ввел в обиход новый, крайне важный источник – неопубликованный меморандум Уварова Николаю I (март 1832 года), где, по-видимому, впервые Уваров, в преддверии своего назначения министром народного просвещения, обосновывает ту новую идеологию, какую он намерен предложить императору, и исчисляет три принципа, необходимых для поддержания порядка в России, которую не обошли стороной смута и брожение умов – следствия Июльской революции во Франции и польского восстания 1830–1831 годов. Впрочем, как убедительно показал Зорин, новыми уваровских три принципа можно назвать с большими оговорками. В истории русской националистической мысли все самобытное, заметил докладчик, непременно исходит из немецких источников; так же обстоит дело и с триадой: она есть непосредственный плод общения Уварова с Фридрихом Шлегелем и знакомства с его теориями о сословно-национальной государственности. Характеризуя сами принципы, составившие знаменитую триаду, Зорин превосходно показал их сугубо прагматический характер: в меморандуме Уваров ни разу не употребляет слово «православие», он говорит только о национальной религии; Уварову безразлична сущность православной доктрины, религия важна ему лишь как орнаментальная деталь национальной истории. Сходным образом трактуется и самодержавие; это – может быть, и не наилучший, но необходимый в настоящее время рычаг сохранения спокойствия в России. Итак, православие и самодержавие выступают у Уварова как элементы русской народности, сама же эта народность оказывается принадлежностью чистой идеопсихологии: у подданных Российской империи нет ни общности крови, ни общности языка, ни общности истории, следовательно, народен тот, кто в эту народность верит и ощущает себя ее носителем.
Некоторые из слушателей задались вопросом, правомерно ли выдвигать в качеств «учителя» Уварова лишь Фридриха Шлегеля; назывались другие немецкие философы, писавшие о народном духе. Зорин в ответ пояснил, что Шлегель был первым, кто столь тесно связал меж собой национальное и государственное; до него в апологии народного и национального охотно усматривали революционную крамолу, и об этом хорошо помнил Уваров, когда соединял народность (динамический принцип) с православием и самодержавием – принципами статическими, консервативными, пытаясь тем самым эту сомнительную народность реабилитировать.
Самую оживленную дискуссию вызвали доклады двух исследователей, выступавших вслед за Зориным: Бориса Дубина («Роль писателя и система литературы») и Абрама Рейтблата («Литературная репутация в России в XIX – начале XX века: источники, механизмы формирования, основные типы»). Оба докладчика, профессиональные социологи, чрезвычайно высоко подняли в своих докладах планку теоретических абстракций – и аудитория, состоявшая по большей части из историков литературы, ответила им дружным скепсисом, за что и заслужила от Дубина упрек в методологической невинности. Собственно, спор велся даже не столько о цели, сколько о направлении движения; Дубин шел «сверху»; в докладе он предложил ряд классификаций (содержательные типы литературных репутаций, источники ее формирования, эпохи, когда ее роль ослабляется или, наоборот, усиливается), однако ни времени, ни, по-видимому, желания прикладывать эту общую (и вполне логичную) схему к буйному многообразию реальных литературных репутаций (и ситуаций) у докладчика явно не было. Зато это с большой охотой проделали его слушатели: каждый поспешил применить предложенную схему к той эпохе, к тому писателю, которым занимается, и обнаружить неизбежные нестыковки. Отсюда был сделан вывод – может быть, чересчур решительный, но, во всяком случае, объяснимый, – об отсутствии эвристической ценности у столь глобальных теоретических построений вообще. Желая призвать эмпириков к порядку, Дубин, не только социолог, но по совместительству еще и блистательный переводчик Борхеса, напомнил один из его парадоксов: дабы не упустить ни одной детали в географии Англии, следует нарисовать карту Англии в натуральную величину. Дубин думал укорить своих оппонентов, а они приняли идею на ура и в мечтах уже стали подыскивать себе на этой карте уютные уголки.
Впрочем, если дискуссию касательно карты Англии следует, безусловно», отнести на счет «банного» субстрата конференции, то многие другие тезисы в ходе обсуждения докладов Дубина и Рейтблата были выдвинуты совершенно всерьез. Рейтблат в докладе задался целью назвать источники приобретения литератором определенной репутации (сначала – салон или кружок, затем – влиятельный журнал); говорил докладчик и о внелитературных факторах как дополнительных рычагах формирования репутаций (были названы такие амплуа, идущие от реальных биографий сочинителей, как «купец», «поляк», «патриот» и проч.). Из доклада, обладавшего своей весьма жесткой внутренней логикой и, казалось бы, куда более приближенного к конкретному материалу, чем доклад Дубина, вытекало, что с литературными репутациями XIX века все более или менее ясно; осталось разве что кое-где дополнить классификацию. Напротив, пафос всех тех, кто участвовал в обсуждении доклада, сводился, пожалуй, к напоминанию: сфера истории литературы и тем более механизм формирования литературных репутаций – объекты исследования, поддающиеся интерпретации, но не классификации. Опыт подсказывал каждому исследователю конкретной эпохи, что у литературной репутации могут быть источники глубоко индивидуальные, в текстах не зафиксированные (такие, например, как мужское обаяние и успех у женщин), и сведение этих многообразных случаев в систему никаких эвристических приобретений нам не сулит.
Спор «теоретиков» и «историков» разгорался на конференции еще не раз, хотя впоследствии уже не так бурно, и всякий раз суть его сводилась к одному: «теоретики» хотели до начала конкретной исследовательской работы выяснить «краеугольные» и «основополагающие» вопросы, например, что же все-таки такое литературная репутация, которой, собственно говоря, посвящена конференция, а историки были готовы ярко и четко описать механизм создания и бытования той или иной литературной репутации, совершенно не определяя, что это понятие означает. Исчерпывающий итог спору подвел Александр Чудаков, напомнивший, что лингвисты на своих заседаниях отказались определять, что такое «слово», ибо в противном случае ни одна лингвистическая конференция не могла бы состояться.
Олег Проскурин, полемизировавший с Рейтблатом и потому «посвятивший» ему свой доклад, изложил собственную точку зрения на «Мифологизацию писательской биографии в русской культуре эпохи ампира». Вначале докладчик обосновал свое понимание русского ампира, существенно расширив привычные его рамки; он подчеркнул в русской культуре первой трети XIX века ориентацию на античность, проекцию на политические установления и общественные добродетели Древнего Рима и как следствие этого – появление у литературы, причем не только «государственной», но и интимной, камерной, весьма высокого статуса. Именно в эту эпоху писательская биография делается компонентом литературной системы. Каким образом эта писательская биография – зачастую решительно расходящаяся с биографией «эмпирической» – сотворялась, Проскурин продемонстрировал на нескольких весьма выразительных примерах: так, Батюшков, рисуя портрет Ипполита Богдановича, живущего уединенно, в обществе кота и петуха, создает фигуру идеального поэта, а Д. И. Хвостов, прочтя строки Батюшкова, недоуменно исчисляет в дневнике привычки реального Богдановича – завсегдатая светских гостиных. Тот же Батюшков поступает так не только с умершими предшественниками, но и с самим собой; он стилизует по петраркистскому канону историю своей любви сначала к дочери рижского купца Мюгеля, а затем к Анне Фурман, исследователи же сомневаются не только в силе любовных чувств поэта, но и в самом существовании его пассий (во всяком случае первой из них). Автомифологизацией занимался и другой поэт, современник Батюшкова, – И. А. Крылов, сознательно формировавший представление о себе как набор анекдотов, концентрирующихся вокруг трех тем: обжорство, лень и неряшливость.
Ольга Вайнштейн в докладе «Плагиат как способ письма: о литературной репутации С.-Т. Кольриджа»[67] показала, какую большую роль играла в творчестве этого английского поэта его, так сказать, «литературная клептомания»: он присваивал себе чужие поэтические или философские тексты, даже не скрывая этого. По мнению докладчицы, причина такого не совсем обычного поведения коренилась, с одной стороны, в «женском» характере мышления Кольриджа, которому требовались для творчества мощные, «оплодотворяющие» импульсы извне, а с другой – в существовании в романтическую эпоху определенных авторских амплуа, предполагающих стирание граней между «своим» и «чужим». Вайнштейн перечислила некоторые из этих амплуа: энциклопедист, собиратель фольклора, мыслящий себя творцом нового эпоса, переводчик, лектор и собеседник (создающий тексты типа «застольных бесед», table-talk).
Александр Чудаков в докладе «Литературный грубиян Буренин» продемонстрировал, что полузабытый ныне персонаж известной эпиграммы («По Невскому бежит собака, / За ней Буренин, тих и мил; / Городовой! смотри однако, / Чтоб он ее не укусил!») был не только остроумным, но и довольно тонким литературным критиком, ценившим – в отличие от большинства его глубоко политизированных современников – писателей не за убеждения, а за литературные достоинства. Доклад состоял в основном из «показа» аудитории наиболее ярких образцов буренинской критики и вдохновил слушателей на самые смелые гипотезы, как, например, влияние Буренина как хранителя усредненных традиций русской словесности на Л. Д. Троцкого (предложение Олега Проскурина). Изумленный докладчик обещал это предложение обдумать.
Александр Жолковский назвал свой доклад «Великий плохой роман Чернышевского и ирония его судьбы»[68]. Продолжив начатую Ольгой Вайнштейн тему литераторов, «оплодотворяемых» другими, более сильными писательскими индивидуальностями, Жолковский сразу признался, что основными идеями доклада обязан вышедшей в США на английском языке монографии Ирины Паперно, посвященной роману Чернышевского[69], и его рассуждения, таким образом, являются вариациями на тему книги Паперно, которой, впрочем, никто из присутствовавших, кажется, не читал, и потому «кольриджевское» начало калифорнийского профессора публику нисколько не шокировало. Продемонстрировав, каким образом функционируют в сюжетосложении романа мотивы подмены, блефа, тотальной фальсификации и манипуляции одних, более сильных, «особенных» людей другими, более слабыми, докладчик обнаружил в романе Чернышевского всю политическую стратегию последующего советского строя; понятно, что в случае успеха у читателей такой роман не мог не иметь «сокрушительной прагматической эффективности». Он ее и приобрел, когда один читатель верно его понял и написал, перефразируя Хлестакова, «другое» «Что делать?». Несмотря на мощный слой терминологической и методологической новизны (психоаналитические истолкования взаимоотношений Чернышевского с женой, установление «диагноза» автору романа – самоотождествление с сильной женщиной-героиней вплоть до скрытого андрогинизма, и разные изящные английские словечки, которые мы не будет здесь приводить за недостатком познаний в английском языке), доклад, таким образом, оказался по-старинному морализаторским и решительно разводящим в романе Чернышевского «идейное» и «художественное» (как говаривали в старину). Жолковский отвел специальный абзац перечислению того, за что «мы бы Чернышевского похвалили». а именно за авангардистское плохое письмо, волевой дискурсивный жест повествователя, альтернативность повествования. Но хвалить «мы», т. е. докладчик, его за это не стали, – очевидно, по той причине, что он научил нас нехорошему – манипуляции и фальсификации. Такой вывод из доклада неизбежно напрашивался.
Константин Азадовский прочел доклад «Николай Клюев: миф о „народном поэте“»[70], где обстоятельно показал, каким образом, идя навстречу «социальному заказу» литературной среды начала XX века, уроженец Олонецкой губернии Клюев стал выпячивать и подчеркивать в своей биографии те черты, каких от него ждали интеллигенты, жаждавшие припасть к тайнам народной мудрости: крестьянское происхождение, близость к природе и патриархальному укладу деревенской жизни. Между тем в реальности Клюев был отнюдь не сыном пахаря (отец его трудился на посту сидельца в казенной винной лавке), а родная губерния поэта отнюдь не была в годы его детства той глухоманью, какой он хотел ее изобразить. Клюев, показал докладчик, вовсе не был носителем народного сознания, хотя основательно изучил его к концу 20‐х годов; он был не столько народным бардом, сколько начитанным и даже утонченным человеком городской культуры.
В обсуждении доклада Азадовского была очень кстати проведена параллель с докладом Андрея Зорина, где шла речь о том, что сама народность – плод творческой мысли немецких романтиков. Чем больше чаяний и надежд с народностью связывают, тем более неуловимой и удаленной от реальности она оказывается.
Завершил первый день конференции доклад Андрея Немзера «Лермонтов в литературе конца 20‐х – начала 30‐х годов ХX века». Докладчик показал, каким образом скудость фактического наполнения реальной лермонтовской биографии позволяла последующим интерпретаторам, основываясь на одной и той же книге (висковатовской биографии поэта), представлять его личность совершенно различно – то демоническим злодеем, то романтической жертвой обстоятельств. Рассмотрение посвященной Лермонтову биографической прозы (Мережковский, Большаков, Пильняк) позволило докладчику коснуться разных типов повествования о прославленных писателях: одни исходят в первую очередь из жизненных обстоятельств своего героя, другие – из его творчества.
Второй день конференции открылся докладом Юрия Орлицкого «Парадокс о Сапгире: между „классикой“ и постмодернизмом»[71]. Генрих Сапгир известен широкой публике в основном в качестве детского поэта, хотя подлинная основа его творчества – стихи взрослые; именно в соотношении этих двух сфер видит Орлицкий главное своеобразие Сапгира; если остальные поэты пишут взрослые стихи всерьез, с оглядкой на читателя, а в детских – «резвятся», то Сапгир, напротив, сочиняя детские стихи, всегда старался приноравливаться к потенциальным заказчикам, во взрослых же стихах, в силу своей авангардности заведомо непечатных, был абсолютно свободен. Это – первый парадокс творчества Сапгира, второй же, по мнению докладчика, – в отсутствии в этом творчестве эволюции. Впрочем, заключил докладчик, возможно, все это вовсе не парадоксы, а естественное отставание исследователя от поэта-творца, чьи свершения исследователь еще не в силах осмыслить.
Николай Богомолов в докладе «Литературная репутация и эпоха: случай М. Кузмина»[72] показал, как менялась общественная функция кузминской репутации: если в 1900‐е годы гомосексуальная аура лишь способствовала славе поэта, то в 1920‐е годы, когда Кузмина стали забывать и сознательно вытеснять из литературы, автор «Александрийских песен» превратился в восприятии современников в представителя «мира петербургской педерастии», чья поэзия безусловно менее важна, чем его сексуальные пристрастия.
Доклад Кирилла Постоутенко назывался «Н. К. и Э. К. Метнеры: к вопросу о национальной самоидентификации»[73]. Докладчик изложил историю скандала, разразившегося в Петербурге в декабре 1911 года. Берлинский дирижер Фрид, недовольный игрой петербургского оркестра, упрекнул русских музыкантов в том, что в их стране даже за деньги нельзя ни от кого добиться толку. Оркестр отказался иметь дело с «иноземным клеветником»; вскоре его из России выслали, а на его место пригласили голландского дирижера Менгельберга, однако пианист Николай Метнер не участвовал и в концерте, которым дирижировал Менгельберг, ибо тот на репетициях извел его своими замечаниями. В открытом письме, опубликованном после этих событий, Метнер пояснял, что Менгельберг унизил его достоинство русского музыканта. Таким образом, Николай Метнер, немец по крови, идентифицировал себя в данном случае как русского; иначе поступил, реагируя на ту же самую историю, его родной брат искусствовед Эмилий Метнер, увидевший в наглом поведении Фрида (немецкого еврея) очередное проявление «засилия в области современной эстрады международного юдаизма», которому давно пора объявить бой и противопоставить ему музыкальнейшую из наций, хранительницу самого духа музыки, а именно немцев. Таким образом, если Николай Метнер полагал, что Фрид и Менгельберг оскорбили русских, то для Эмилия Метнера оскорбленными и пострадавшими от евреев оказались немцы, – прекрасное напоминание о том, что кровь – понятие условное, легко поддающееся мифологизации и идеологизации (то же самое в не меньшей мере относится и к народности, чья призрачность была показана выше Андреем Зориным и Константином Азадовским).
В докладе «Вл. Соловьев – „русский Ориген“» Александр Носов блистательно показал, каким образом, различные группировки и кружки творили каждый свою легенду о Владимире Соловьеве[74]. У Соловьева было целых три различных репутации: родственники изображали его девственником, платоническим возлюбленным мистической Софии; оппоненты-церковники – распутником, скрывающим под внешностью Иоанна Крестителя самые пылкие страсти; наконец, В. В. Розанов уже после смерти философа в примечании к сочинениям Леонтьева выдвинул, ссылаясь на рассказ современника, точку зрения, согласно которой Соловьев, дабы преодолеть соблазны, сам себя оскопил. Основываясь на неопубликованном письме Соловьева, содержащем прелестные, хотя и не вполне цензурные стихи, докладчик показал, откуда мог взяться подобный слух; затем с помощью анализа писем уже опубликованных доказал, что и этот, и все прочие слухи неверны и что Соловьев не был ни девственником, ни «Оригеном», а был нормальным человеком – что, впрочем, никак не отменяет необходимости изучать создававшиеся помимо его воли репутации.
Сторонники методологической четкости (Юрий Левин, Борис Дубин) попытались, правда, оспорить право подобных – сексуальных – репутаций называться литературными, однако закосневшая в эмпирике аудитория их не послушалась, рассудив, что все говорящееся про литератора (а не про частного человека) неминуемо формирует его образ в сознании читающей публики – то есть его литературную репутацию.
Александр Осповат назвал свой доклад «Чаадаев: сотворение „отрицательной“ репутации». Он показал, каким образом П. Я. Чаадаев работал над своей репутацией, формируя ее в соответствии со своей главной жизненной задачей – выбором идеальной стратегии для достижения бессмертия. Чаадаев, по мнению Осповата, не боялся предстать перед современниками трусливым, смешным и даже безумным; ему важно было любой ценой противопоставить себя «простым смертным», а может быть – от этой мысли невозможно избавиться, анализируя его биографию, – как бы заранее подсказать властям, как следует объяснить его «преступление» – создание и публикацию такого скандального текста, как первое «Философическое письмо». Сыграв, по-видимому, на чудовищном честолюбии издателя «Телескопа» Надеждина, Чаадаев добился напечатания «Философического письма»: однажды в жизни он преодолел страх, ибо желание привлечь к своей особе всеобщее внимание оказалось сильнее страха. Поскольку по ходу конференции постепенно стало ясно, что сексуальная ориентированность автора – это некий неизбежный «пятый пункт» его «анкеты» и при анализе литературных репутаций ею редко можно пренебречь, Осповат не уклонился и от этого «банного» аспекта темы, напомнив о тумане, окутывающем эту сторону жизни Чаадаева: ни одной женщины, с которой его отношения пошли бы дальше интеллектуальных бесед и чисто словесного ухаживании, мы назвать не можем, отношения же с камердинером Петром не разгаданы…
Наталия Мазур говорила об А. С. Хомякове; название ее доклада на редкость точно соответствовало сути дела: «Молодой Хомяков: каким он был и каким не был»[75]. Докладчица сопоставляла облик Хомякова, каким сразу после смерти писателя представили его биографы (учитель церкви, едва ли не святой, от рождения горевший религиозным чувством, и проч.), с реальной, а не житийной биографией Хомякова, который признавался, что охотнее прожил бы месяц в Париже, чем год в деревне, говорил чаще по-французски, чем по-русски (хотя ходил в армяке) и был таким скверным хозяином, что уровень жизни его крестьян был самый низкий во всей губернии. Не обошлось в докладе и без пресловутой «сексуальной составляющей»: к восторгу благодарной аудитории, Мазур рассказала о страданиях Хомякова, с которого матушка взяла слово не знать женщины до брака, и тот, вместо того чтобы жениться, до тридцати лет скакал по ночам на лошади, дабы канализовать нерастраченную силу…[76] Увы, что бы сказали о наших банных смешках великие тени Бердяева, Лосского и Флоровского, так благоговейно живописавших подвиги «учителя церкви»!
В ходе конференции уже не раз обнаруживалось, что репутация – вещь зыбкая и даже скользкая, и иногда ей мало что соответствует в действительности: не было ни «святого» Хомякова, ни Клюева как «сына народа», ни самой народности… Но Кирилл Рогов зашел по этому пути дальше всех: он прочел доклад о не существовавшем издателе. В название его доклада, напечатанное в программе чтений, вкралась опечатка: написано было «Генерал С. Л. Львов и писатели его круга», однако, предупредил Рогов, речь пойдет не о Сергее Лаврентьевиче Львове, а о Сергее Матвеевиче Львове, разница же между ними состоит в том, что Сергей Лаврентьевич – существовал, а Сергей Матвеевич – нет[77]. И дальше, проявив себя виртуозным «сыщиком», Рогов показал, что под псевдонимом «С. М. Львов, издатель „Московского курьера“» скрылись несколько человек, и прежде всего – Михаил Макаров, в самом деле начавший издавать в 1805 году этот журнал. Но это еще не все: не было также сотрудницы журнала Анны Безниной (которой, впрочем, посвящена статья в новейшем биографическом словаре русских писателей), а возможно, и другой писательницы, выступавшей на его страницах, – Елизаветы Трубецкой.
Доклад Рогова произвел на аудиторию поистине животворящее действие; все принялись разыскивать истоки происхождения псевдонима Безнина (которое сам Рогов трактует как ошибочно прочитанную фамилию реальной поэтессы, перешедшей затем из лагеря карамзинистов в круг «Беседы» – Анны Буниной): Александр Осповат предложил трактовать подпись под ее статьями «Муром» как анаграмму несостоявшегося макаровского журнала «Амур», а Елена Толстая нарекла ее плодом незаконной страсти помещицы Любезниной, давшей дочери фамилию по известной модели: Пнин – Репнин, Бецкой – Трубецкой и проч. Главное же, как заметил Осповат, доклад Рогова поднял всех присутствовавших в область «экзистенции и метафизики»: оказалось, что репутация бывает и у тех, кого наверняка или с большей вероятностью вовсе не существовало. До классификаций ли тут, добавим от себя, если под классифицируемым материалом глаз опытного исследователя обнаруживает вдруг такие «дыры» и пропасти, если сам систематизируемый материал расползается, как ветхая тряпка? И скольких, кстати, еще писателей не существовало? (Рогова, между прочим, тут же забросали вопросами насчет конкретных персоналий, но он успокоил публику, заметив, что многие из третьестепенных писателей начала XIX века все-таки жили на свете, хотя за всех он бы не поручился.)



