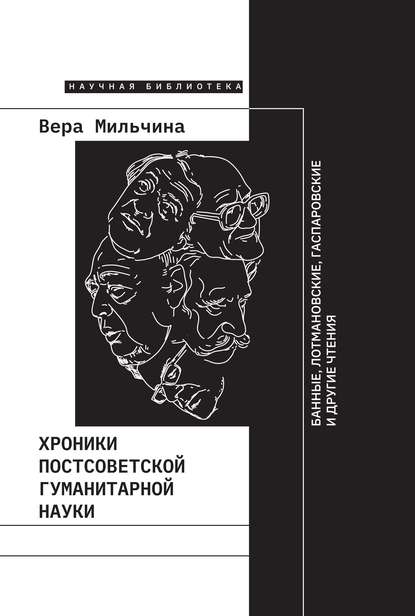
Полная версия:
Хроники постсоветской гуманитарной науки
Самой первой и самой непосредственной реакцией на доклад Рейтблата оказался вопрос Олега Лекманова: «Скажите, пожалуйста, это была шутка?» Однако хотя день спустя, во время круглого стола Рейтблат признался в любви к постмодернизму, в первый день гипотезу о шутейном характере своего доклада он решительно отверг и заверил всех в том, что говорил всерьез. Разумеется, тезис о том, что интернет якобы скоро заменит всех комментаторов, не оставил аудиторию равнодушной; мнение несогласных с этим утверждением выразила Нина Брагинская, сказавшая, что интернет может помочь сэкономить время и память, но не интеллектуальный ресурс и что конкуренцию он может составить только начетчику, думать же все равно приходится самостоятельно и предметов для этих раздумий до сих пор предостаточно. Однако докладчика это возражение, кажется, не убедило. Автору же этого отчета, осведомившемуся о том, зачем сам Рейтблат занимается комментированием, докладчик дал ответ эффектный и нетривиальный: наркоман может знать, что наркотики вредны, но при этом продолжать колоться[126]. Итог услышанному подвел Александр Осповат: в докладе Рейтблата все аспекты той деятельности, которою профессионально занимается большинство присутствующих, были подвергнуты последовательному демонтажу и опошлению.
На этой оптимистической ноте закончился первый день конференции и начался день второй. Открыл его Константин Боленко докладом «Месяцесловы как источник для реального комментария»[127]. Речь в докладе шла, собственно говоря, не столько о печатных месяцесловах (календарях, содержащих географические, исторические и прочие справочные тексты) как таковых, сколько о рукописных записях на чистых листах, которые специально вплетались в месяцесловы, поступавшие в продажу, и – не всегда, но довольно часто – заполнялись владельцами. Записи эти включали в себя самые разные сведения: наблюдения над погодой и суммы долгов, дни рождения знакомых и родственников, сообщения о купленных книгах, полученных и отправленных письмах и даже (в случае с М. А. Дмитриевым, чьи записи в месяцесловах Боленко исследовал особенно подробно) сведения о смерти поэта Батюшкова или об отмене предварительной цензуры (запись, сделанная красными чернилами, какими Дмитриев обычно отмечал только праздник Пасхи). Понятно, таким образом, что месяцесловы с рукописными пометами на специально отведенных листах представляют собою нетривиальный источник для исследования сферы повседневного быта. Между тем поскольку они являются архивными источниками, хранятся же в библиотеках, то остаются практически не востребованными (таков, например, «месяцесловный» дневник ректора Московского университета Гейма, находящийся в Научной библиотеке МГУ, где и самим Геймом, и его библиотекой занимаются весьма активно, но до сих пор никому не известный).
Доклад Любови Киселевой и Татьяны Фрайман (Степанищевой) был посвящен переписке М. А. Протасовой и В. А. Жуковского и назывался «Проблема автоцензуры в переписке»[128]. Собственно говоря, объектом рассмотрения докладчиц стала не двухсторонняя, а трехсторонняя переписка: полноправной участницей ее была кузина М. А. Протасовой – Авдотья Петровна Елагина (урожд. Юшкова), конфидентка обоих влюбленных (прежде всего Маши). Доклад-комментарий выявил самые разные формы и тональности этой переписки. К ним относятся эпистолярный дневник с постоянной оглядкой не только на дружественного адресата, но и на семейного «цензора» – мать Маши Е. А. Протасову; письма неотправленные или уничтоженные; диалог с собой, также требующий своеобразной автоцензуры, поскольку словесное оформление чувств чересчур их обнажает; замена прямого эпистолярного общения обменом книгами (Жуковский посылает Маше Фенелона, ибо в его сочинениях «все сказано»).
Доклад автора этих строк «Как комментировать А. И. Тургенева и как комментировал А. И. Тургенев» был посвящен одному пространному фрагменту из неопубликованного письма Тургенева к Вяземскому от 24 мая 1836 года[129]. В письме этом Тургенев отвечает Вяземскому на его вопрос о молодом французском литераторе Поле де Жюльвекуре не только сведениями о его происхождении и семейном положении (женат на русской), соответствующими современному «реальному комментарию», но и пространнейшей цитатой из очерка Жюльвекура «Физиогномия Москвы», напечатанного в редком французском периодическом издании. Цитату эту Тургенев сопровождает своими ироническими комментариями, ибо не разделяет слепого монархического восторга, с каким француз-легитимист Жюльвекур описывает русскую жизнь и русское государственное устройство. Во фрагменте письма Тургенева есть вещи, заслуживающие специальных разъяснений, например упоминание о готовящемся к выходу из печати сочинении Жюльвекура «о Германии в духе „Мучеников“ Шатобриана», которое оказывается, против ожиданий, вовсе не произведением о раннехристианской Германии, а романом о современном французе-легитимисте, путешествующем по Германии современной, – романом, который роднит с книгой Шатобриана только возвышенный поэтический слог. Однако цель доклада была не в конкретных разъяснениях, а в демонстрации общей стратегии комментирования: если Тургенев ответил Вяземскому на вопрос о Жюльвекуре описанием идеологических предпочтений этого последнего, то комментатор Тургенева должен показать более широкий контекст, в котором существовала подобная идеология (ибо Жюльвекур был далеко не единственным ее адептом), рассказать о «русском мираже» французских легитимистов, которые противопоставляли конституционному хаосу, воцарившемуся во Франции при Июльской монархии, русский монархический порядок – идеальный строй жизни, при котором государь и подданные связаны узами почти семейными.
Доклад Екатерины Ляминой «Авторефлексия „маленького человека“ как объект комментирования»[130] был посвящен рукописному документу, своеобразие которого связано именно с его «стертостью», обычностью. Это «ежедневные записки» 1824, 1825, 1826 годов, которые вел петербургский чиновник Федор Симонович Политковский. Представив биографические сведения о своем герое (по его собственной характеристике, «ничтожном, но члене общества»), докладчица перешла к рассказу о его дневнике, фиксирующем самые заурядные повседневные занятия: визиты, праздники, пешие прогулки (чрезвычайно любопытно было наблюдение докладчицы над образом жизни молодых петербургских чиновников и/или литераторов 1820‐х годов: они возвращались домой, только чтобы лечь спать, а все остальное время проводили на службе, на улице или в гостях). Даже такие из ряда вон выходящие события, как наводнение 1824 года или события 14 декабря 1825 года (по Политковскому, «картина великолепная и страшная»), в общем не нарушают строя повествования, состоящего преимущественно из стилистических штампов (официозных или сентиментальных). Именно этот штампованный, отнюдь не всегда индивидуализированный характер рассматриваемого источника и составляет главную проблему. Докладчица назвала дневник Политковского «родом автокомментария к его собственной жизни». Однако комментарий этот до крайности похож как на «комментарии» других тогдашних чиновников, которые вели дневники (в ходе обсуждения доклада это специально подчеркнул Кирилл Рогов), так и на времяпрепровождение «маленьких людей», известное нам по классической литературе от «Медного всадника» до «Шинели». Обсуждение доклада Ляминой было посвящено вопросу о том, что в данном случае должно служить объектом, а что инструментом: литература ли должна помогать осмыслению дневника или же дневник должен служить фоном для литературы? Вопрос этот, впрочем, остался открытым.
Александр Осповат в докладе «Вокруг пушкинского комментария»[131] говорил об особенностях комментирования творчества Пушкина, прежде всего повести «Капитанская дочка». Начал он с повторения «неприятного, но бесспорного» тезиса М. Л. Гаспарова о том, что любой текст написан на чужом для комментатора языке, хотя относительно некоторых авторов это на первый взгляд не так заметно, ибо их мнимая ясность вводит нас в заблуждение. Именно такова проза Пушкина, который не объявляет правил, по каким следует его понимать, и обманывает недогадливого читателя якобы принятой им установкой на легкое чтение. Комментированию Пушкин сопротивляется так активно, как ни один другой русский писатель (в отличие, например, от Гоголя, чья словесная вязь написана как будто нарочно ради того, чтобы быть прокомментированной). Он охотно прибегает к общим местам, к стереотипам и скрывает за их обманчивой ясностью двусмысленности, которых читатель даже не замечает. Так происходит и с мелочами, и с вещами куда более серьезными: например, недогадливый читатель, скорее всего, не сообразит, что действие «Капитанской дочки» происходит во время русско-турецкой войны, ибо в тексте об этом впрямую не говорится ни слова; между тем эта информация существенным образом корректирует понимание текста. Таким образом, в случае с Пушкиным (в первую очередь с пушкинской прозой) объектом комментирования (или реконструкции? или даже пересказа?) становятся скрытые намеки на то, что содержится в намеренно опущенных частях фраз, или даже неподтекстообразующие источники, из которых складывается аура текста.
Роман Лейбов в докладе «Комментарий и интерпретация. К вопросу о комментировании Тютчева»[132] продемонстрировал, в каких направлениях может развиваться комментарий к одному стихотворению – в данном случае к стихотворению Тютчева 1855 года «Вот от моря и до моря…». Первая часть доклада была посвящена истории и «культурной мифологии» телеграфа – в контексте данного стихотворения изобретения магического и зловещего и потому вполне органично связываемого с тревожным ожиданием конца Севастопольской кампании; вторая часть – индивидуальной тютчевской мифологии (Тютчев здесь, как и во многих других случаях, сочиняет пророчество, стихотворение на Случай с прописной буквы, на случай, который еще не случился, но случится в будущем). Коснулся Лейбов и практических (но отнюдь не второстепенных) проблем комментирования лирики: с его точки зрения, лирика сопротивляется пословным комментариям, поэтому комментатору лирики удобнее и полезнее концентрировать свои суждения в общих преамбулах.
Лирике был посвящен и доклад Наталии Мазур «Подтекст versus топос: к вопросу о границах комментария»[133]. Речь в нем шла о стихотворении Баратынского «Последний поэт», а точнее, об одном его словосочетании – «голос волн». Докладчица не просто рассказала о том, как следует комментировать это место, но и познакомила аудиторию с ходом собственных разысканий. Сначала в поле ее зрения оказались сходные контексты, почерпнутые из литературы того же времени и того же национального ареала: Батюшков, Вяземский, Пушкин (у всех этих поэтов встречаются образы «говора валов», «шума морского» и проч.); затем к русской поэзии прибавилась французская поэзия того же периода (Ламартин, Гюго); затем – и здесь свою благотворную роль сыграл интернет – выяснилось, что «говор моря» (murmur maris) был чрезвычайно употребителен в латинской поэзии. Это заставило докладчицу обратиться к классическому труду Э.-Р. Курциуса «Европейская литература и латинское Средневековье», где в качестве главного инструмента для изучения подобных «общих мест» поэзии предложено понятие «топос». Говор морских волн – это не что иное, как классический топос, присутствующий почти у всех латинских поэтов, причем зачастую уже в виде чистой метафоры. Однако сама по себе эта информация еще никак не помогает прояснить функцию, в которой данный топос используется в стихотворении Баратынского. Для этого приходится искать не только топосы, но и источники; таковыми оказываются псалмы в дальней перспективе и «Гений христианства» Шатобриана в перспективе более близкой и более актуальной для Баратынского, переводившего отрывки из этой книги. Именно Шатобриан истолковывает «говор волн» как доказательство мудрости Божьего промысла, как «хвалебный гимн отцу миров», именно он оплакивает в связи с этим выпадение современного человека из мировой гармонии (это тот самый смысл, который эксплицируется в позднейшем французском автопереводе «Последнего поэта» на французский язык – тексте, в котором идет речь о «голосе гармонической бездны, воспевающей гостеприимство Создателя»). Соотношение топоса и метафоры, источника и подтекста вызвало в ходе обсуждения оживленный обмен репликами; самая поразительная из них принадлежала Н. В. Брагинской и касалась реплик Иисуса Христа в «Деяниях апостолов», которые, как выяснилось, имеют непосредственным источником не что иное, как фрагменты из Гомера и из «Вакханок» Еврипида.
Три следующих доклада были посвящены комментариям, так или иначе связанным с невербальными видами искусства.
Раиса Кирсанова («Изображение как источник литературного текста») рассмотрела два сюжета. Первый был связан с комментированием фразы из романа Мельникова-Печерского «Старые годы», где в качестве выразительной детали старинного костюма названа прическа с корабликом. Прическа эта любопытна тем, что ее можно очень четко датировать (она была изобретена французским парикмахером Леонаром для королевы Марии-Антуанетты сразу после морского сражения при Бресте, которое произошло в 1778 году); более того, она была многократно описана и даже изображалась на картинках в модных журналах, однако в реальной жизни никогда не встречалась и осталась в культурной памяти только как словесный образ. Напротив, во втором случае за словесным образом встают совершенно реальные обстоятельства «костюмного» характера. Персонаж пушкинской «Истории села Горюхина», который стоял «растопыря ноги наподобие буквы хера и подбочась наподобие ферта», принял эту позу вынужденно: полы тогдашнего модного мужского кафтана были такими же жесткими, как женские фижмы, и просто не позволяли опустить руки.
Другой тип отношения словесных и изобразительных текстов был продемонстрирован в докладе Киры Долининой «Комментарий к пейзажу. Риторика словесного описания у передвижников»[134]. Речь здесь шла о том, каким образом установка русского изобразительного искусства XIX века на идею (а не на форму, как у французских художников того же времени) претворялась в текстах самих художников, когда они брались описывать свои или чужие картины, в частности пейзажи. В основе картин передвижников всегда лежит нарратив, и потому картины эти легко ложились в основу вербальных текстов, посвященных не столько собственно формальным особенностям того или иного полотна (композиция, цвет, контур), сколько изображенным на нем событиям, стоящим за ним идеям (характерна подпись Шишкина под эскизом вполне «бессюжетной» картины «Рожь»; в подписи этой упоминаются такие сугубо идеологические понятия, как «Благодать Божья» и «Русское богатство»).
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Сноски
1
См., например, сборники «Дневник читателя», которые в 2004–2008 годах выпускал Андрей Немзер, или политическую публицистику Александра Архангельского в сборниках «Политкоррекция» (2002), «Гуманитарная политика» (2005) и «Базовые ценности: инструкции по применению» (2006). Совсем недавно собрали свои рецензии под одной обложкой Галина Юзефович («Удивительные приключения рыбы-лоцмана», 2016) и Анна Наринская («Не зяблик. Рассказ о себе в заметках и дополнениях», 2016).
2
С тех пор Виницкий эту статью опубликовал; см.: [Виницкий 2017].
3
https://www.youtube.com/watch?v=UWLTMPPHVnI
4
Судя по моим подсчетам, до печати доходят примерно две трети произнесенных докладов; во всяком случае, в данном сборнике отреферировано 517 докладов, и из них 354 рано или поздно обрели печатный вид.
5
Об этой неофициальной форме развития гуманитарной науки см.: [Гаспаров 2006; Брагинская 2006б].
6
О царившей в Кяэрику атмосфере «шутки, праздничного сдвига будней» (Б. Ф. Егоров), «„домашней“ естественности» (Ю. И. Левин) см. в воспоминаниях участников летних школ: [Московско-тартуская школа 1998].
7
Сейчас, с появлением у многих докладчиков компьютерных «презентаций», жизнь хроникера существенно облегчилась, однако к этому визуальному сопровождению прибегают отнюдь не все, и это в каком-то смысле к счастью: необходимость фотографировать изображения на экране рассредоточивает внимание.
8
См.: НЛО. 1996. № 19 («Европейская общежительность и характеры наций: взгляды народов друг на друга», Париж, 1995); 2008. № 93 («Образ иностранца: французы в России, русские во Франции», Париж, 2008); 2009. № 97 («Стендаль и романтизмы», Гренобль, 2009); 2010. № 102 («Русские эмигранты во Франции в XIX – ХX веках: вымысел и реальность», Страсбург, 2010); 2010. № 105 («Французы в России, 1789–1917: новые источники и новые подходы», Париж, 2010); 2011. № 109 («Интеллектуалы, власть и литература, XVIII–XX вв.», Париж, 2010); 2011. № 110 («Построение собственного образа: русские и французские варианты», Кан, 2010); 2011. № 111 («Шатобриан и художественное повествование: предшественники и последователи, традиции и новаторство», Тулуза, 2011); 2012. № 113 («Французы в интеллектуальной и научной жизни России XIX века», Париж, 2011); 2012. № 118 («Взглянуть в лицо врагу: образ врага в культуре, XIX – ХX века», Нантерр, 2011); 2014. № 129 («Россия – Швейцария: контакты, взаимосвязи, взаимовлияния, XVIII – ХХI вв.», Женева, 2014); 2015. № 135 («Русские во Франции, 1814 год: Факты. Литература. Мемуары», Париж, 2014).
9
См.: Теория и мифология книги. Французская книга во Франции и России. М., 2007; Актуальность Жозефа де Местра. Материалы российско-французской конференции. М., 2012; Россия и Франция XVIII–XX вв. Лотмановские чтения. М., 2013; Russian sociological review. 2014. Vol. 13. № 3. P. 193–218; Вторые Глазычевские чтения. Город о себе: языки самоописания. М., 2015; Вольность и точность. Гаспаровские чтения – 2014. М., 2015; Семиотика поведения и литературные стратегии: Лотмановские чтения – XXII. М., 2017; Эткиндовские чтения VIII, IX: по материалам конференций «Там внутри» 2015 г., «Свое чужое слово» 2017 г. М., 2017; Ф. В. Булгарин – писатель, журналист, театральный критик. Материалы международной научной конференции (Москва, РГБИ, 30–31 октября 2017 г.). М., 2019; Переводы классики старые и/или новые (ШАГИ/STEPS. 2019. Т. 5. № 3; в печати).
10
См.: Ab Imperio. 2001. № 3; 2002. № 2.
11
См.: НЛО. 2018. № 154 (Международная научная конференция памяти Ефима Григорьевича Эткинда: к 100-летию со дня рождения; Тексты и контексты: «Философские этюды» О. де Бальзака); НЛО. 2019. № 155 (Гаспаровские чтения – 2018); НЛО. 2019. № 156 (XVI Лотмановские чтения «Литература и…»).
12
[Гаспаров 2002; то же: Гаспаров, Подгаецкая 2000: 163].
13
Впервые: Русская мысль. 1991. 24 мая. В газетной публикации речь шла просто о Чтениях памяти Эйдельмана, поскольку в тот день было еще непонятно, что за ними последуют вторые, третьи и проч. и потому эти окажутся первыми.
14
См.: [Немзер 2003: 19–42].
15
См.: [Вацуро 1994: 75–82].
16
Впервые: НЛО. 1993. № 2.
17
Итог многочисленным работам А. Серкова, посвященным тайным орденам и масонству, подведен в: [Серков 2009].
18
См. прежде всего двухтомник: [Арзамас 1994], в подготовке которого О. А. Проскурин принял активнейшее участие, а также статью: [Проскурин 1996].
19
См.: [Кнабе 1993].
20
Полное издание переписки Чаадаева с Тургеневым по-прежнему ждет своего часа, но некоторые ее аспекты освещены в ряде публикаций; см.: [Мильчина, Осповат 1995–1996; Мильчина, Осповат 2006; Мильчина, Осповат 2008].
21
См.: [Формозов 1995; Формозов 2012].
22
См.: [Яковенко 1992].
23
Впервые: НЛО. 1993. № 3.
24
Очерк об Эйдельмане, выполненный примерно в той же стилистике, см.: [Порудоминский 2009].
25
См.: [Проскурин 2000: 204–211]. О дискуссии, вызванной этими страницами книги Проскурина, см.: [Поселягин 2014].
26
См.: [Осповат 1995].
27
См.: [Немзер 1995].
28
См.: [Рогов 1997а].
29
См.: [Захарова 1996].
30
См.: [Проскурина 1994].
31
Это в самом деле произошло, но поскольку сама я по уважительной причине на Четвертых чтениях отсутствовала, отчет о них написала Е. Э. Лямина (НЛО. 1994. № 9. С. 349–351).
32
Впервые: НЛО. 1995. № 14.
33
Книга «Вьеварум. Лунин» в самом деле вышла в 1995 году в издательстве «Мысль», что же касается сборника пушкиноведческих работ Эйдельмана, то он под названием «Статьи о Пушкине» вышел в свет в издательстве «Новое литературное обозрение» в 2000 году.
34
См.: [Рахматуллин 1995].
35
См.: [Захарова 1999].
36
См.: [Данилевский 1995].
37
См.: [Юрганов 1996].
38
См.: [Кнабе 1999: 177–182].
39
См.: [Каменский 1999].
40
См.: [Архангельский 1995; Архангельский 2012: 362–409].
41
См.: [Мазур 1995–1996].
42
См.: [Козловский 1997].
43
См.: [Махнач 2005].
44
Впервые: НЛО. 1996. № 20.
45
См.: [Андреев 1995].
46
См.: [Зорин 2001: 159–186; глава «Народная война»].
47
Некоторые положения доклада развиты в: [Рогов 1999а; Рогов 1997б].
48
См.: [Мильчина 2004б: 364–368].
49
См.: [Немзер 2004; Немзер 2014: 342–358].
50
Впервые: Знание – сила. 1997. № 11.
51
Книжное издание дневников см. в: [Эйдельман 2003].
52
PS 2019: Имелся в виду, естественно, автор советского гимна, но Эйдельман смотрел далеко вперед, так что мысль его остается верной и применительно к следующим носителям этой фамилии.
53
Доклад в отчете не пересказан, поскольку одноименная статья Данилевского опубликована в том же номере журнала «Знание – сила».
54
См.: [Юрганов, Каравашкин 2003: 68–115].
55
См.: [Самовер 1999].
56
См.: [Майорова 1997].
57
PS 2019: Статью мне в журнале обнаружить не удалось, но три года спустя вышел с комментариями Панова том пушкиноведческих работ супругов Цявловских; см.: [Цявловские 2000]. Но о чем была новелла? Очень жалею, что не обозначила этого хотя бы в двух словах.
58
Впервые: Знание – сила. 1999. № 11–12. Поскольку регулярность чтений была нарушена, эти «юбилейные» чтения не получили порядкового номера – и, увы, оказались последними.
59
Книжное издание дневников см. в: [Эйдельман 2003].
60
См.: [Каменский 2004].
61
См.: [Мазур 2004].
62
См.: [Эдельман 2012].
63
См.: [Рогов 1999а].



