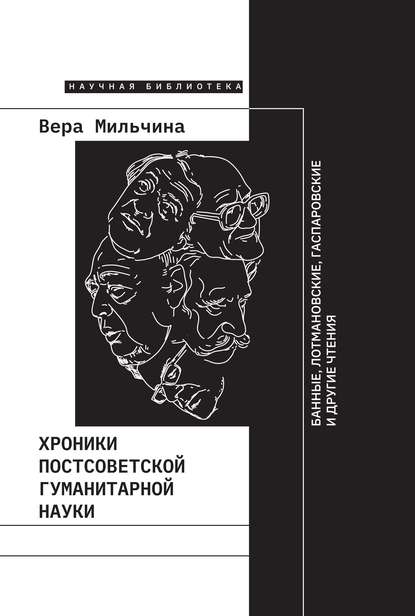
Полная версия:
Хроники постсоветской гуманитарной науки
«Десертный» Сергей Панов начал свое выступление в жанре «виртуального доклада» (термин мой): времени нет, и доклада тоже нет, поэтому я скажу лишь то, о чем должно было быть в докладе. И сказал, на мой взгляд, чрезвычайно содержательно. Назывался доклад «Питийственность карамзинистов», причем питийственность, подчеркнул Панов, – это совсем не то, что вы думаете, ибо карамзинисты пили в основном и прежде всего кофе и чай. Впрочем, кофе в докладе (и в быту карамзинистов) как-то быстро ушло – или ушел? – на второй план, будучи полностью заслонено и оттеснено чаем (противопоставление кофе как взбадривающего напитка чаю как напитку расслабляющему в эту эпоху актуальным не было). В русскую культуру, сказал Панов, чай и кофе внесли именно карамзинисты. Не случайно Карамзин еще в журнале Новикова «Детское чтение» опубликовал два перевода с немецкого: «Кофе» и «Чай»; друг его юности Петров не оценил глубины замысла и удивился в письме: зачем, мол, пишешь о такой ерунде? Но Карамзин знал, что делает. От него эстафету перенял его друг и последователь И. И. Дмитриев, угощавший гостей замечательным чаем, гости же, сами известные карамзинисты, из коих первый – князь Шаликов, прихлебывали чай и восклицали: «Нектар, амброзия!» «Записки в стихах» В. Л. Пушкина, изданные после его смерти тем же Шаликовым, изобилуют разными «чайными» мотивами, как то: «На этих днях в семье твоей явлюся к чаю», «Китайский нектар пить», «В семь часов я буду к чаю, жди меня, любезный мой» и проч. Итак, питье чая для карамзиниста – поведение знаковое; настоящий карамзинист должен хвалить Карамзина, быть добрым человеком и пить много чаю; лишь в этом случае можно будет утверждать, что он проводит время культурно. Любопытна роль чая в карамзинистской сюжетике: сентиментальная повесть чая не знает, так как в эталонное произведение – «Бедную Лизу» – этот мотив не вошел (Лиза с матушкой чаю не пьют…). Зато в сентиментальном путешествии стоит повествователю отправиться в дорогу, как он тотчас встречает какого-нибудь любителя (или любительницу) чая. Увы, следующее поколение не разделило пристрастий старших карамзинистов: «арзамасцы» изменили чаю и стали пить «всякую алкогольную гадость» (дословное выражение докладчика, авторство которого он любезно приписал Олегу Проскурину); что уж говорить о рецензенте «Северной пчелы», который вообще о книге В. Л. Пушкина, изданной Шаликовым (см. выше), отозвался так: толку нет, а видно, что писано большим поклонником чая. Вот обо всем этом, заключил Панов свой доклад, я и думал рассказать.
По ходу обсуждения выяснилось, что самовар изобрели татары, что в 1812 году в Москву пришли французы, а крестьяне по такому случаю утащили из брошенных господских усадеб в свои деревни стулья и запасы чая, что чай в начале XIX века еще не лишился флера аристократизма, а кое-где (но, наверное, не в России) воспринимался как наркотик или, во всяком случае, говоря словами Бальзака, как «возбуждающее средство», что в русской литературе второй половины XIX века чай выступал в роли напитка сугубо метафизического («Миру ли провалиться или мне чаю не пить?») и пошло это все с Достоевского (сказал Евгений Шкловский, а Ольга Майорова уточнила – с В. Ф. Одоевского), и, наконец (сказал Леонид Кацис), что в ЛЕФе тоже демонстративно пили только чай, а об водке ни полслова – подражали, стало быть, старшим карамзинистам?
Эгоистически используя право хроникера высказывать мысли, пришедшие задним числом, «на лестнице», предложу Панову вариант интерпретации изложенных им фактов. В «Трактате о современных возбуждающих средствах» (1839) Бальзак рассказывает о трех англичанах, приговоренных к повешению, которые ради продления жизни согласились, в целях научного эксперимента, питаться сколько хватит сил только шоколадом, только кофе или только чаем. Хуже всего пришлось тому, кто выбрал шоколад: он умер через восемь месяцев, изъеденный червями. Любитель кофе протянул два года и сгорел заживо. Победителем, разумеется, оказался поклонник чая: он прожил целых три года и стал таким прозрачным, что «филантроп мог поставить лампу позади него и читать газету „Таймс“». Как не увидеть здесь указания на исключительную тонкость карамзинского психологизма, позволяющего заглянуть глубоко в душу герою, и на бессмертие карамзинских идей, вспоенных чаем, а не каким-нибудь там шоколадом?!
Последний доклад оказался куда более виртуальным, чем все предыдущие вместе взятые, что, учитывая позднее время, было донельзя гуманно. Докладчики, Константин Поливанов и Клаус Харер, обозначили свою тему как «Виски в русской литературе» и предложили аудитории ряд примеров из русской поэзии от Пушкина до А. Белого и Б. Пастернака, где о виски не говорится ровно ничего, но могло быть сказано кое-что и даже было сказано – в первых, рукописных вариантах, которые все хранятся в семейном архиве К. Поливанова, но по известным обстоятельствам личного характера не были обнаружены ко дню конференции. Однако же докладчики отчетливо помнят, что в рукописях повсюду стояло – виски. Аудитория подхватила добрый почин и стала радостно предлагать докладчикам многочисленные примеры «виртуального виски». Нерешенным остался вопрос, какая из поэм Маяковского в большей степени посвящена виски – «Про это» или «Хорошо!», а также вопрос о субституте виски: для водки «субститут» – чай («чай не водка, – гласит устами Осповата народная мудрость, – много не выпьешь»), для коньяка – кофе, а для виски? Неужели пепси?
Поиски какого бы то ни было субститута по окончании конференции в силу разных технических причин успехом не увенчались, и она осталась сугубо чайной, что придало ей еще больше своеобразия.
Лотмановские чтения
Комментарий умер? Да здравствует комментарий!
XI Лотмановские чтения
«Комментарий как историко-культурная проблема»
(ИВГИ РГГУ, 18–20 декабря 2003 года)[119]
18–20 декабря 2003 года в Институте высших гуманитарных исследований проходили XI Лотмановские чтения. Тема их была в этом году сформулирована следующим образом: «Комментарий как историко-культурная проблема». Один из выступавших на завершившем конференцию круглом столе, Илья Кукулин, подводя некоторые итоги обсуждения, отметил, что диапазон сравнений, которым подвергалась за эти три дня комментаторская деятельность, был на удивление широк: от религиозной проповеди до наркомании. Другой, Александр Осповат, определил конференцию как спор двух партий: «заскорузлых долдонов», которые, как и всегда, твердили, что комментарии в той форме, в какой мы их знаем, – вещь нужная и полезная, и «незаскорузлых недолдонов», которых традиционный комментарий по тем или иным причинам не устраивает и которые ратовали за поиск «новых форм». В самом деле, внутренний сюжет конференции состоял именно в этом. Однако сюжет этот выявился далеко не сразу.
Первый день конференции начался куда более мирно и спокойно, докладом Михаила Леоновича Гаспарова «Ю. М. Лотман и проблемы комментирования». Содержание доклада мы опускаем, поскольку все желающие могут прочесть его в этом же номере журнала[120]. Отметим только, что в рядах партии «заскорузлых долдонов», то есть пламенных адептов комментирования, особенно пылкое сочувствие, переходящее в острую зависть, вызвал тезис Михаила Леоновича об эпохах, когда комментарий воспринимается как «свалочное место для всего накопленного».
Николай Гринцер посвятил свой доклад «Кризису классического комментария античных текстов». Комментарии античных текстов – одна из наиболее тщательно разработанных областей филологического знания; неудивительно, что комментарий этот все чаще становится предметом теоретической рефлексии. За последние пять лет в Европе вышли четыре сборника статей, специально посвященных этой проблеме. Традиционный комментарий, базирующийся на достижениях немецкой школы XIX века, дошел до своего логического предела. В XIX веке комментирование античных текстов чаще всего было связано с эдиционными задачами (комментарии дополняли издание нового источника); что же касается адресации, то здесь превалировал школьный узус. В наше время оба эти аспекта претерпели существенные изменения: число источников текстов ограничено и изданы они уже почти все (исключение составляет лишь одна область – папирология); аудитория «античных» комментариев также изменилась; теперь (в связи с сокращением классического образования в школе) статус адресатов таких комментариев повысился: не школьники, а ученая публика. «Сосуществование» двух адресаций отразилось в одном из изданий середины ХX века, в котором сведения, по мнению комментатора излишние для школьников, были поставлены в квадратные скобки; впрочем, в позднейших переизданиях комментариев скобки эти были сняты. Разумеется, на комментирование античных текстов радикальным образом повлияло появление компьютерных технологий. По выражению одного английского филолога, «базовая проблема любого комментария – во всем надоевших „ср.“», теперь же то, что в XIX веке было главным предметом гордости филологов-классиков, – знание «параллельных мест» – превратилось в техническую проблему. Тем очевиднее сделалась потребность в интерпретации, в «концепционности»; отсюда – предпочтение объемных вступительных статей или комментариев к большим блокам текста, а также комментариев, сохраняющих форму пословных или построчных пояснений, но публикуемых в отрыве от текста. Наконец, чрезвычайная разработанность и изощренность античной филологии приводят к возникновению жанра «комментария к комментарию». Это, впрочем, относится к комментариям в привычной нам печатной форме. Что же касается комментариев в электронном виде, то они, при всем богатстве средств, какие предоставляет филологам система гипертекста, пребывают пока в начале того цикла, который прошли эти комментарии в своем обычном, доинтернетовском бытии. Уже существуют электронные комментарии к Гомеру и Вергилию, но пока это всего лишь обычный школьный пословный комментарий; создание настоящего научного аппарата еще впереди.
Доклад Нины Брагинской носил название «Повествование как побочный продукт комментария», речь же в нем шла о комментарии как порождающем механизме культуры[121]. Ведь комментарий можно определить как универсальный словарь данного текста, сконцентрированный на отличиях значений, актуальных для этого текста, от общеупотребительных; следовательно, комментарии могут стать основою словаря культурных кодов и, шире, словаря культуры данного периода. Одна из особенностей доклада Брагинской заключалась в том, что она вела речь одновременно и о тех комментариях, которыми занимаются филологи и историки в наше время, и о той комментаторской деятельности, которой занимались античные авторы или древние жрецы и мимы. В докладе было много интереснейших замечаний, касающихся практической комментаторской повседневности (например, о том, насколько комментарий к фрагменту текста отличается от комментария к тексту в целом, или о том, насколько разные задачи решает переводчик иноязычного текста в том случае, когда он имеет возможность прокомментировать переводимый текст, и в том случае, когда он такой возможности не имеет). Однако едва ли не самой важной в докладе оказалась проблема «инновационного» элемента в комментариях. С одной стороны, комментарий как жанр не отвергает повторения сведений, уже сообщенных прежними комментаторами; напротив, он его предполагает (отсюда появление чрезвычайно понравившегося аудитории термина «импортный комментарий»); но, с другой стороны, и это докладчица подчеркнула особо, комментаторский тип культуры принадлежит вовсе не к традиционным, как принято считать, а к инновационным. Если древний автор пишет для ученика комментарий к своей картине, из этого рождается жанр экфрасиса. Если древний актер действует только с помощью жестов, а словесное общение с аудиторией возложено на главу труппы, в прошлом жреца, то здесь рождается то, что через много столетий превратится в литературную критику. Сама античная философия возникла во многом как комментарий к Орфею или Гомеру. Комментарий в традиционных культурах создает новый культурный фон.
Доклад Сергея Тищенко был посвящен «Комментарию к библейским книгам для широкого читателя». Главный его пафос заключался в необходимости именно в комментариях для широкой публики напоминать о том, что книги Библии представляют собою тексты, по отношению к которым вполне корректно ставить вопросы об авторстве, датировке, историческом контексте и проч. Между тем чаще всего вопросы эти не ставятся, Библия сохраняет статус сакрального текста, а это приводит к значительным аберрациям в восприятии. В качестве примера докладчик привел фрагмент из 13‐й главы Второзакония, содержащий призыв убивать собственноручно тех людей, которые будут соблазнять «служить богам иным», и фрагмент из 7-й главы той же ветхозаветной книги, призывающий к истреблению идолопоклонников-хананеев. Ученые ХX века усмотрели в этих пассажах роковой прообраз всех будущих инквизиторских законов и тоталитарных режимов, призыв к тотальному контролю над личностью и превращению родственников в доносчиков, не говоря уже о «программе геноцида хананейских народов». Между тем у широкой публики, если она будет подходить к этим текстам некритически, благоговейно и воспринимать их как всецело сакральные и не подлежащие комментированию, может возникнуть желание и потребность воплотить все эти указания в жизнь. Комментарий же должен задать координаты исторического прочтения библейского текста, показать, в какой обстановке этот текст был создан и какие обстоятельства тогдашней жизни иудейской общины обусловили его появление. Такой исторический комментарий, причем предназначенный для широкого читателя, гораздо более важен, нежели разъяснение отдельных непонятных слов; без этого комментария сакральный статус Библии будет полностью предопределять ее буквальное восприятие.
Библейским текстам был посвящен и доклад Анны Шмаиной-Великановой, однако в данном случае речь шла о «Некоторых особенностях раввинистического комментария»[122]. В раввинистической традиции (в отличие от традиции европейской) комментарий является не просто центральным, но, в сущности, единственным жанром творчества. Всякий другой вид творчества, чтобы завоевать право на существование, должен доказать, что происходит из комментария, или притвориться им. Виды раввинистического комментария многообразны: от пословных и даже побуквенных пояснений до пересказов и амплификаций. Конкретная прагматическая задача, решаемая этим комментарием, – помочь отдельному человеку привести свою жизнь в соответствие с библейским текстом. Еще одно отличие раввинистического комментария от европейского состоит в том, что, если последний зачастую анонимен, первый всегда носит глубоко «авторский» характер; талмудическая традиция требует, чтобы каждый отвечал за свои слова, мог объяснить, откуда он взял ту или иную мысль. Впрочем, при этом раввинистические комментарии основываются на благоговейном почитании традиции, и великим здесь считается не тот, кто изобрел свое собственное толкование, а тот, кто тщательно сохранил толкования предшественников. Наконец, от европейского комментария раввинистический отличается тем, что в этом случае «комментатору» нет необходимости определять, насколько сознательным было намерение автора высказать ту или иную мысль; ведь в библейском тексте заранее и заведомо содержится (в зашифрованной, скрытой форме) абсолютно все; здесь любое слово можно прочесть как аббревиатуру чего-то иного, и дело комментатора-толкователя обосновывать – с привлечением всей предшествующей традиции – свой путь к прочтению этого «иного», мистического смысла.
Итог докладу Шмаиной-Великановой подвела на третий день конференции Нина Брагинская, заметившая в ходе кулуарного обсуждения, что «весь интертекст уже был придуман раввинами-комментаторами». Впрочем, это замечание носило все-таки отчасти шутливый характер, что же касается вопроса о роли интернета в комментировании (вопроса, которого первым коснулся Николай Гринцер), то его обсуждение в прениях принимало подчас характер более чем серьезный. Первым, кто высказался на этот счет с известной долей скептицизма, был Георгий Левинтон, указавший на то, что создание исчерпывающего списка «параллельных мест» всегда было задачей технической; все «ср.» и «см.» являются плодами работы памяти (не столь важно, человеческой или электронной), выловить же все их без исключения не позволит даже интернет, который при пословном методе поиска не покажет, например, полных синонимов.
В ходе конференции чередовались или же развивались параллельно две темы: как делать комментарии и что может быть сделано в рамках комментариев. Именно второму аспекту был посвящен доклад Ларисы Степановой «Ренессансный комментарий к Петрарке»[123]. Непосредственным предметом рассмотрения докладчицы стало издание «Сонетов и канцон» Петрарки, выпущенное в 1501 году в типографии Альда тщанием литератора и филолога Пьетро Бембо. Мало того, что это издание было революционным в чисто типографском смысле (оно стало одним из первых образцов использования курсивного шрифта и «карманного» формата в восьмую долю листа, позволявшего носить книгу с собой и читать на прогулках); в сборнике 1501 года Бембо проделал огромную работу по упорядочению тосканского диалекта, легшего в основу итальянского языка, по усовершенствованию орфографии и унификации графического образа слов; он ввел в употребление запятую, точку с запятой, диакритические знаки. Все эти непривычные «закорючки» и нововведения вызывали раздражение у многих читателей; издатели почувствовали потребность обосновать свои действия. Споры эти происходили в комментариях, обретавших самое разное материальное воплощение, – от рукописных помет на полях (описи которых издаются в наши дни современными филологами) до особой тетради, вплетенной в непроданные экземпляры «альдины» 1501 года: в ней Бембо от имени издателя Альда объяснял читателям основания, по каким был избран тот или иной вариант.
Если в докладе Степановой речь шла о роли комментариев в процессе становления письменного литературного языка, то доклад Сергея Неклюдова перенес участников конференции в совсем другую – устную и фольклорную – сферу. Доклад этот носил название «Как комментировать фольклорный текст», и говорилось в нем прежде всего о кардинальных отличиях комментария к фольклорным текстам от комментария к текстам литературным. Комментарий к литературному тексту адресован всегда современникам комментатора, он опирается на семантические поля, общие для комментатора и читателя, он приводит систему читателя в соответствие с системой текста. Иначе обстоит дело с комментарием к фольклорному тексту. Дело в том, что сам этот текст не является конечным продуктом; он существует в виде множества синхронных и равноправных вариантов, совокупность которых никогда не обретает материальной формы и носит мыслимый, виртуальный характер. Текст движется во времени, обретая в разных исполнениях разные интерпретации и по ходу этого движения получая новые значения (так, прототипическая «воровская малина» превращается в «кустик малины»). Каждый вариант устного текста представляет собой синхронный срез традиции, причем сама для себя эта устная традиция в комментариях не нуждается; комментарии эти адресованы только исследователям, и объектом их должны являться не отдельные тексты, а вся традиция в целом. Комментирование призвано прежде всего выявлять модель культуры, стоящую за текстом, ограниченный набор сущностей и уже затем – их разнообразные конкретные воплощения (так, действие одной и той же военной песни может происходить как «среди Болгарии равнины», так и «между Москвой и Ленинградом», а в роли агрессоров, напавших на «лирических героев», может выступать самый широкий набор персонажей: турки, татары, чехи, лиходеи, «злые люди», «злы фашисты» и проч.). В комментарии, таким образом, нуждаются не те или иные конкретные слова или образы, а сама семантика песни или другого фольклорного текста.
Доклад Николая Богомолова назывался «Комментарий как способ проблематизации текста», однако речь в нем шла не столько о проблематизации, сколько о конкретных сложных задачах, встающих перед комментаторами (в частности, комментаторами русской литературы начала ХX века – сфера, особенно близкая докладчику), и о правильных и неправильных способах решения этих задач. Особенно ценным в практическом смысле было напоминание о необходимости комментировать не просто реалии или имена, но эти реалии в связи с их ближайшим контекстом. Если в тексте комментируемого письма говорится о некоей таллинской выставке, где предстал «во всем блеске „Мир искусства“», то комментатору следует не отыскивать сведения о выставке – не имевшей места – художников-«мирискусников» в Таллине, а понять, что автор письма просто-напросто имел в виду полотна в духе «Мира искусства». А если в тексте другого письма упоминается некий «московский» старец, то следует сначала приглядеться к контексту сугубо материальному – то есть самой рукописи письма – и убедиться, что помянутый старец на самом деле не «московский», а «лесковский», что, конечно, не разрешает сразу всех задач и не избавляет комментатора от внимательного просмотра сочинений Лескова, но все-таки существенно сужает круг поиска.
Доклад Георгия Левинтона назывался «Комментарий и подтекст». На нескольких примерах докладчик виртуозно продемонстрировал, как работает «реальный» комментарий, исходящий из того, что реальность не сырая эмпирика, а другой, уже структурированный текст. Он, например, объяснил, почему в гумилевском переводе французских строк Готье Фауст превращается в Мефистофеля, но возникает рядом, в той же стихотворной строке, в другом обличье – в виде слова «хвост», за которым различимы французское произнесение имени Faust как «фост» и ирония над французской манерой произносить любые имена на французский лад. Или показал, как можно «прочесть» самый знаменитый пример «зауми» – крученыхское «дыр-бул-щыл» – с помощью «простой литореи», почерпнутой из «Славяно-русской палеографии» А. И. Соболевского (1-е изд. 1902). Или напомнил, что выявление живописных подтекстов литературных произведений предполагает в первую очередь ответ на вопрос, какое именно полотно данного художника мог в данный момент времени увидеть данный поэт или прозаик.
Илона Светликова посвятила свой доклад комментированию не художественного, а научного текста; доклад этот носил название «Научный труд как предмет культурно-исторического комментария (проблема Тынянова)», и речь в нем шла о книге «Проблема стихотворного языка»[124]. Сначала докладчица обозначила контуры загадки: продемонстрировала «темноту» многих ключевых понятий тыняновской книги и несводимость тех значений, которые вкладывает Тынянов в употребляемые им термины («признак значения», «теснота стихового ряда»), к общеупотребительным значениям этих слов. После того как загадка была загадана, докладчица дала ее последовательную и весьма убедительную разгадку – продемонстрировала близость тыняновского словоупотребления к работе со сходными терминами в смежной науке – психологии, а именно в весьма популярных в начале ХX века «Психологии народов» В. Вундта и «Психологии» И.-Ф. Гербарта (основателя «гербартианского» направления в психологии). У Вундта отыскалось весьма специфическое (и унаследованное Тыняновым) толкование признака как части наших представлений о предмете, которые и составляют основу процесса называния предметов. У Гербарта – светлое поле сознания, в котором в результате вытеснения звуком звука или светом света выступают вперед второстепенные и колеблющиеся признаки, и понятие «ряды». Главное же заключается в том, что для Гербарта чрезвычайно важно представление о сознании как о поле борьбы противоположных сил, о психических процессах как процессах по преимуществу динамических; именно в этой стороне гербартианства видит Светликова один из источников представления Тынянова о стиховой конструкции как психическом феномене и о динамическом характере литературной эволюции.
В прениях Борис Кац напомнил, что в то же самое время и даже в том же самом здании, что и Тынянов, работал человек, который пользовался примерно теми же психологическими категориями и открыто ссылался на Вундта, – знаменитый музыковед Б. Асафьев.
В сущности, весь доклад Светликовой представлял собой развернутый и доказательный исторический комментарий к теоретическому наследию Тынянова; тем резче был контраст этого доклада с последовавшим за ним и заключившим первый день конференции докладом Абрама Рейтблата «Комментарий в эпоху интернета (методологические аспекты)». Полный текст этого доклада – как и доклада М. Л. Гаспарова – читатель найдет в этом же номере «Нового литературного обозрения»[125]; однако выступление Рейтблата вызвало в ходе конференции столь оживленную полемику, что исключение его резюме из отчета противоречило бы элементарным нормам летописания и сюжетосложения. Из сферы практического комментирования доклад Рейтблата перенес аудиторию в сферу теоретической рефлексии по поводу комментаторской деятельности. Если Илона Светликова дала превосходный пример развернутого и доказательного комментария, то Рейтблат предложил собравшимся не менее развернутые размышления о тщете и бессмысленности комментирования вообще. Позже, выступая в прениях, Рейтблат не раз пенял на то, что его неправильно поняли и он, собственно, не против комментирования. Однако логика того, что собравшиеся услышали в качестве доклада, была совершенно недвусмысленной. Комментарий, сказал докладчик, есть, согласно словарям, «толкование, разъяснение текста». А зачем, собственно, толковать текст, если он написан на том языке, который и для читателя является родным? Затем, что между читателем и автором есть культурная или хронологическая дистанция и потому читатель может автора не понять? Но кто сказал, что текст непременно должен быть понятен? В России как в крестьянской, так и в научной среде непонятность испокон веков считалась высшим достижением. В лубочных текстах есть много заведомо непонятного, однако это не мешало им пользоваться огромной популярностью, а словарик мифологических богов, который Матвей Комаров приложил к первому изданию своего «Милорда Георга», в следующие издания включен не был – очевидно, по причине своей невостребованности. Значит, установка на толкование текстов – прежде всего классических – связана с авторитарным, тоталитарным желанием установить единую, «правильную» норму прочтения. Право устанавливать такую норму монополизируют отдельные люди и целые профессиональные кланы (литературоведы); бывает, впрочем, и хуже: за комментарии берутся дилетанты, люди, которых никто на комментатора специально не учил (как, например, комментатор Пушкина П. В. Анненков – литературный критик, а вовсе не профессионал комментирования). Понятно, что в советскую эпоху комментаторы впитали все дурные замашки советской власти: они исполняли функции посредников-медиаторов между властью и публикой; им было позволено иметь информацию и ею делиться. Но хорошего понемножку: в эпоху интернета комментаторскому всевластию приходит конец; скоро все, что написано по-русски, будет оцифровано, и тогда львиная доля того, чем занимаются комментаторы, окажется не нужна. Читатели сами будут отыскивать все необходимые параллели в Сети, а к помощи филологов их же коллеги будут прибегать только в немногих сложных случаях.



