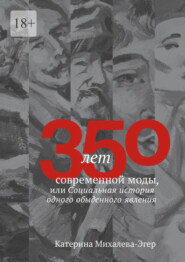
Полная версия:
350 лет современной моды, или Социальная история одного обыденного явления
Всех, кто хорошо умеет воровать, по праву называют Изенгрином.98
Сюжет произведения строится вокруг борьбы умного и хитрого лиса Ренара с грубым и кровожадным волком Изенгрином, с сильным и глупым медведем Бреном, львом Ноблем (королем), глупым ослом Бодуэном (священником). Основным двигателем борьбы лиса Ренара является голод и кража еды – ветчины, сельдерея, сыра. Когда лис и его товарищи превращаются в баронов, они первым делом закатывают пир:
«Дама Эрзан с радостью устраивает им празднество и готовит всё, что может: ягненка, жаркое, каплунов в горшке. Она приносит всего в изобилии, и бароны с избытком утоляют свой голод».
Сытость, а не богатый, тем более модный, костюм становится символом обретение нового, более высокого статуса.
Самая базовая из человеческих потребностей – еда, а отнюдь не одежда, еще долгие столетия будет оставаться фетишем, важнейшим маркером социального статуса, а обжорство – объектом вожделения большинства, одним из главных грехов знати и в каком-то смысле предписанным демонстративным поведением королевских особ. Прием пищи превратился в значимую придворную церемонию задолго до того, как такую же роль стали отводить смене разнообразных придворных костюмов при Людовике XIV. Вот как описана церемония ежедневного приема пищи его отцом, Людовиком XIII, уже в первой половине XVII в.:
«Согласно церемониалу, король восседал за столом, окруженным барьерами, на высоком стуле. С одной стороны от него размещался первый лейб-медик, с другой — первый гофмейстер. Позади — уже стоя — капитан королевской гвардии, два вооруженных стражника, принцы и кардиналы, находящиеся в это время в Лувре, а за барьерами — неподвижные и молчаливые придворные. Король благоговейно и отрешенно выслушивал „Benedicite“ — молитву перед едой, которую произносил священник в качестве символа милосердия, затем принимал от самого знатного из сеньоров салфетку и приступал к трапезе»99.
А вот, к примеру, что подавали весьма слабому здоровьем Людовику XIII перед осадой Ла Рошели 29 января 1628 г. На обед: протертый суп из каплунов, заваренный хлебом; суп с прожаренным в жире мясом, сдобренным лимонным соком; отварная телятина; костный мозг; рубленые каплуны с хлебными крошками; желе; два печеных яблока с сахаром; груша в сиропе; начинка из яблочного пирога; три пакета вафельных трубочек; хлеб; легкое, слабоокрашенное, но хорошо выдержанное вино. На ужин: похлебка из каплунов и рубленые каплуны; телятина в собственном соку; суп с телятиной в собственном соку; отварная телятина; костный мозг и нижние части куриных ножек.100 Как он всё это съедал – остается загадкой, но, возможно, такая способность к обжорству была требованием к королевской персоне, уходя корнями в голод Средневековья и сакральное отношение к еде.
Общество без времени и коммуникаций
Восприятие мира выражается в двух основных категориях – время и пространство. Существует термин «Хронотоп» – «время—пространство», где «хронос» – по-гречески «время», а «топос» – «место». Буржуазное общество и промышленный переворот внесли в восприятие времени и пространства принципиальные изменения, которые отличают нашу современную картину мира от картины мира обществ добуржуазных, архаичных. Современный человек воспринимает время как некий абстрактный однородный поток, который можно разделить на соизмеримые отрезки. Этот поток равномерно течет из безвозвратного прошлого через настоящий момент – в еще неизвестное будущее. Мода – дитя современного, буржуазного, линейного, быстротечного, остро ощущаемого времени.
Человек же Средневековья индифферентен к времени «историческому», его мировосприятие – это мировосприятие аграрного циклического времени (пахота—сев—жатва), усиливавшаяся календарем религиозных праздников. Он живет «от рассвета до заката», постоянно воспроизводя вчерашний опыт. Время не воспринимается им как ценность, его не считают, оно тратится на церемонии и празднества, на паломничества и бесконечные молитвы. Время утекало у средневекового человека, словно песок, но то был человек эпохи, которая не столько не измеряла время, сколько жила естественным, природным временем, органически ощущая цикличность смены утра вечером, зимы – весной, летом, осенью и снова зимой.
Единственным учреждением раннего Средневековья, которое пыталось организовать время, была церковь. Церковное время, казалось бы, отличалось от «естественного» времени, противостояло ему. Однако и оно на самом деле было цикличным, а не линейным, в нём не было развития и динамики. Только церковь разделяла сутки и год не по природным явлениям, а в соответствии с церковными праздниками и задачами богослужения, ежедневно и ежегодно повторяющими свой круг. Это «церковное» время было скорее синтезом исторического и мифического. Мифическое время – это не события прошлого, а события, которые постоянно актуализируются во время религиозных праздников, возрождаясь в ритуалах. Все эти ритуалы воспринимались через живое «детское» сопереживание публики как реально происходящие у нее на глазах события.
В период раннего Средневековья античное искусство строить солнечные и водяные часы (клепсидры) сохранилось только в Византии и в арабском мире. На Западе они были крайней редкостью и воспринимались скорее как диковина, чем как полезный в жизни механизм. Хроники сообщают, что арабский халиф Харун ар-Рашид прислал императору Карлу Великому в Аахен сложно устроенные водяные часы. Однако как распорядился подарком Карл Великий, хроники умалчивают.
Лишь в XIII в. в Европе появляются механические часы. Известно, что в 1288 г. башенные часы были установлены в Вестминстере. Первые в Западной Европе башенные механические часы имели всего одну стрелку – часовую. Минуты тогда не измерялись вообще, зато такие часы нередко отмечали церковные праздники. Так, башенные часы в Страсбурге, установленные в 1354 г., не имели маятника, зато отмечали часы, части суток, праздники церковного календаря, Пасху и зависящие от нее дни.
Первые карманные часы были запатентованы в 1675 г. Х. Гюйгенсом101. Всеобщим мерилом и частной необходимостью время стало только к буржуазным XVII—XVIII вв.
Средневековому человеку точное время было ни к чему. Он знал, что было первое Пришествие, и ожидал второго – и это всё. Единственный персонаж Средневековья, который существовал в конкретном времени – это бюргер или купец, хотя и он вплоть до XIV в., когда вместе с механическими часами внедряется новая линейная система осмысления времени, действовал скорее на удачу, чем сообразуясь с точными расчетами. Купец был главным провозвестником новой экономики, существующей не в цикличном времени натурального хозяйства или церковном времени повторяющихся богослужений, а времени, где от него зависит стоимость денег и товара.
И всё же средневековое естественное цикличное время осталось с модой Нового времени. Ежегодные циклы обновления моды, столь удачно нащупанные Людовиком XIV в законе 1667 г., аналогичны архетипу вечно возрождающегося героя, как и ежегодным циклам религиозных праздников. Поэтому воспринимаются как нечто естественное, повторяя вечный цикл рождения и смерти. Так что, строго говоря, современная мода живет одновременно в двух временных измерениях – линейном «буржуазном» и цикличном средневековом.
Пространство – вторая базовая категория мировосприятия. А оно в Средневековье из-за проблем с коммуникациями сузилось до масштабов конкретного места проживания человека. Коммуникация – это еще одно условие для функционирования моды. Во-первых, для движения моды в каких-то более-менее значимых масштабах нужен широкий обмен информацией между участниками модного процесса. Но как это сделать, если носителей такой информации практически нет, да и те немногие рассеяны по разным странам и лишены возможности личной коммуникации ввиду весьма плачевного состояния дорог? Во-вторых, безопасные дороги и транспорт необходимы для перемещения товаров. В-третьих, одежда как символическая коммуникационная система должна быть единой для коммуникаторов, чтобы они понимали друг друга. Возможно ли это при отсутствии развитых физических коммуникаций? И всё же совершенно очевидно, что цивилизация Запада даже в эпоху Средневековья, в отсутствие хороших дорог, развитой письменности и общего массового языка, была единой, если не единообразной.
Давайте поразмышляем, как люди общались в эпоху Средневековья, передавали информацию через большие расстояния и время, как они договаривались. Как распространялась информация в догутенберговской вселенной, т.е. до изобретения печатного станка, когда письменность была еще мало развита, скорость обмена информацией очень низкая, а физические коммуникации медленны и опасны? Мы поговорим о коммуникации, о том, без чего развитое человеческое общество не может существовать.
Люди Средневековья были домоседами или они всё же передвигались? Как много, как часто и как далеко? С одной стороны, единый язык средневекового богослужения и средневековой науки – латынь – облегчал перемещение богословов и священнослужителей так же, как единство обычаев господствующего класса способствовало передвижению рыцарей от одного феодального двора к другому. Но передвигались в те времена очень неторопливо. За сутки удавалось покрыть не более нескольких десятков километров. Например, путь из Флоренции в Неаполь занимал одиннадцать-двенадцать дней. Путешествовали медленно не столько потому, что Средневековье не слишком ценило время, сколько из-за того, что транспортные средства были плохи. Древний Рим оставил после себя 150 тыс. километров прекрасных шоссейных дорог102. Но состояние их без централизованной поддержки было плачевным, а окрестные жители часто выламывали камни из них для строительства своих жилищ. Обычные средневековые дороги представляли собой тропы, проложенные через поля или в лесу, и были настолько узки, что две повозки не могли свободно разъехаться: специальные статуты XIII в. предписывали, что пустая повозка должна была уступать путь груженой. Пользоваться дорогами можно было только в хорошую погоду – в зимнее и дождливое время они становились непроезжими. Только королевские дороги во Франции достигали ширины двух повозок благодаря введению королевской властью и монастырями специальных повинностей по их строительству и поддержанию. Часть из них была вымощена уже в конце XI века.
Римские мосты через большие реки в Средние века были разрушены. Те новые, деревянные, что начинали строить, согласно средневековым хроникам, часто сами жители города могли сжечь в целях безопасности, чтобы воспрепятствовать переправе грабителей с другого берега. Мост могли поджечь и перевозчики, в расчете увеличить плату за перевоз, как произошло, например, с мостом у Майнца, который был сожжен в 813 г. Некоторое оживление в строительстве мостов приходится только на XII в. В несколько лучшем положении было строительство каменных мостов в Северной Италии по причине сохранившихся римских традиций.
Как вообще люди передвигались сами и перевозили товар? Римская система упряжи была такой: быков запрягали непосредственно за рога, а лошадям надевали ремни на шею. Такая упряжь не позволяла использовать тяжело груженный воз. Однако в раннее Средневековье всё же распространяются некоторые нововведения, например железная подкова: римляне лишь в исключительных случаях подвязывали лошадям и верблюдам подковы из металла, кожи или даже соломы. Настоящие подковы, прибиваемые гвоздями к копытам, стали распространенным бытовым явлением к X в. Подкова сберегала копыта, позволяла лошади быть устойчивей и тащить больший груз. К началу IX в. относится изобретение хомута и распространение дышла, которое было известно римлянам, но не получило у них широкого применения. Массовым использование этих усовершенствований стало в XII в., что позволило перевозить более тяжелые грузы. В это же время началось усиленное мощение дорог. Так что и этот факт также приводит нас к выводу, что ранее XII в. не было необходимых условий для нормального обмена товарами и, соответственно, хоть какого-то распространения общеевропейской моды.
Плохие дороги и мосты мешали развитию торговых связей, но были лишь частью слабости всей системы средневековых коммуникаций. Отсутствие налаженного обмена порождало те социальные условия, которые, со своей стороны, препятствовали его упорядочиванию. Сам феодальный уклад ограничивал коммуникации: многочисленные таможенные заставы приводили к удорожанию провоза товаров и замедляли сообщение.
Хуже всего дело с таможнями обстояло в Германии. Так, на Рейне, между Базелем и Роттердамом, они размещались в среднем через каждые 10 км, на Эльбе, между Прагой и Гамбургом, – через каждые 14 км, на Дунае, между Ульмом и Пассау, – через каждые 15. Сеньоры предписывали купцам обязательные дороги для проезда на ярмарку. Такая дорога могла быть в несколько раз длиннее прямого пути, но она была закреплена обычным правом, и заменять ее лучшей строжайше воспрещалось. Феодалы получали плату за конвой, то есть за выделение вооруженных всадников для охраны путников, хотя по сути это был обычный рэкет. Феодальное право диктовало путнику не только то, где он должен был ехать, но и где останавливаться – в какой харчевне, у какого кузнеца или седельника, регламентировалось также количество припасов, какое следовало закупать проезжающим. И еще множество регулирующих правил, вплоть до того, что в случае поломки повозки или падения животного вещи, высыпавшиеся на землю, становились собственностью местного сеньора. Направляющиеся на войну или очередной Крестовый поход армии просто грабили торговые обозы. Гораздо позже, в эпоху формирования национальных государств и возникновения осмысленно-научного подхода к экономической политике государства, возникло понимание необходимости поддержки торговли и, соответственно, хороших и безопасных дорог с единой системой налогообложения. А пока, в Средние века, физические коммуникации, если они были связаны с перевозом каких-либо ценностей, были весьма затруднительны. Поэтому и моды могли меняться преимущественно по воле случая, а не вследствие регулярного обмена информацией и товарами. Так, под влиянием Крестовых походов западная элита стала носить более длинную и струящуюся одежду на «восточный манер».
Как еще можно было коммуницировать в ту эпоху? Устная культура ненадежна, информация плохо сохраняется при передаче. На чём писал и как совершенствовал человек те носители, на которые можно было нанести информацию, а затем передать ее через расстояния и время? Как, например, во Флоренции XII века можно было узнать о том, что носят при бургундском дворе, помимо того, чтобы просто приехать и увидеть это своими глазами?
Сейчас трудно представить себе время без возможности получить любые данные в любой момент. Но Средневековье – это время дефицита самых элементарных носителей информации, хотя именно тогда мы наблюдаем одну очень серьезную и важную эволюцию, касающуюся формы книги. Изначально книга представляла из себя свиток (лат. volumen) и лишь постепенно она эволюционирует к кодексу, от нетранспортабельной – к транспортабельной. В Риме свитки делались из папируса – материала, который завозили из Египта, где он выращивался. Свитки из склеенного папируса скручивали в трубки и вкладывали в глиняные кувшины. Собственно, это и была форма хранения книг в древних библиотеках, самой известной из которых была знаменитая библиотека в Александрии. С закатом Римской империи, упадком обмена с Египтом папирус перестал быть носителем информации, т.к. его просто не выращивали на территории Европы.
Форма кодекса вплоть до Средневековья использовалась, но для простых записей и черновиков. Массово кодекс распространяется ближе к середине первого тысячелетия и становится неотъемлемым элементом христианской культуры как форма книги. Делали его из пергамента, то есть из специфическим образом выделанных шкур животных, а обложка делалась из дощечек, которые обшивались кожей. Кодекс представлял собой, безусловно, более сохраняемую книгу, он создавал иную практику и чтения, и переписывания, копирования книг.
Вплоть до XI в. книги изготавливают преимущественно в монастырях, позднее их производство перекочевывает в университеты, которые также были в той или иной мере религиозными учреждениями. Технологический процесс создания книг был сложным. Первоначально довольно долго, несколько месяцев, готовили пергамент. Подготовка состояла из процедур ошпаривания, многократного дубления, промывки и т. д. После этого пергаментщики разрезали шкуру при помощи свинцовых карандашей, чистили кожу пемзой, затем лист размечался, указывались поля, производилась обрезка, оставлялось место под иллюстрации и только потом материал передавался в скрипторию для переписывания книг. Затем книга иллюминировалась, т.е. иллюстрировалась. Можно ли представить монахов или ученых людей, чаще всего богословов, всерьез интересующихся фасонами одежды и использующих для передачи информации о ней столь сложно добываемые носители информации?
Свободно информация начала передаваться лишь в век бумаги. Классическая бумага, с проклейкой в массе, была создана в Китае еще в начале II в. н. э. В VII в. способ ее изготовления становится известным в Корее и Японии, а еще через 150 лет через военнопленных попадает к арабам. В VI—VIII вв. производство бумаги осуществлялось в Средней Азии, Корее, Японии и других странах Азии. И лишь в XI—XII вв. она появилась в Европе, где заменила животный пергамент. Производство бумаги начнет быстро расти в Новое время, с XV—XVI вв., в связи с началом книгопечатания. А до тех пор носители информации были дефицитным и дорогим продуктом, что тормозило эффективную коммуникацию, в том числе и обмен информацией о новых «модах».
Основа гардероба средневекового человека
Если говорить об одежде ранних Средних веков, то куда уж проще: никакой вам метафоричности и символичности. Мода была бы настолько избыточной характеристикой средневекового мировоззрения, что раннесредневековый романский и даже готический костюм – это некая простейшая смесь античных традиций, византийских деталей и варварских новшеств – «штанов», те же древнеримские рубашкообразные тоги, надетые одна поверх другой, и плащи. По большому счету, у нас практически нет достоверных сведений об одежде раннего Средневековья, помимо т.н. реликвий (напр., туники, принадлежавшей королеве Батильде103) и археологических изысканий Нового времени. Однако ткань и кожа – материалы средневекового костюма – плохо сохраняются в земле, но по обрывкам платья и взаимному расположению металлических предметов – пряжек, нашитых на платье блях, обувных застежек и других деталей – археологам порой удается реконструировать одежду, в которую покойника обрядили для вечной жизни. Сопоставление вещей, принадлежащих к галло-римской и франкской культуре, показывает, как смешивались и воздействовали друг на друга привычки и вкусы населения, принадлежавшего к обеим народностям. Что важно: как правило, богатым убранством отличаются языческие захоронения. После VII в. заупокойный инвентарь даже в могилах королей становится куда скромнее и проще – дань христианскому благочестию и скудости жизни.
Вплоть до XII в. основу гардероба средневекового человека Запада104, – как крестьянина, так и аристократа, – составляли всего несколько вещей: льняная рубашка (камиза или шенс), штаны, верхняя рубашка, плащ и мягкая обувь без подошвы. Интересно, что средневековый костюм фактически был «унисекс»: женская одежда несущественно отличалась от мужской.
Короткие штаны – брэ, первоначально были простым полотнищем, которое обертывалось вокруг бедер и закреплялось на поясе. Позднее брэ удлинились до колен, а затем – и до лодыжек. Помимо брэ носили и другие штаны – шоссы. Это были плотные чулки, натягивавшиеся отдельно на каждую ногу и закреплявшиеся застежками к поясу. Только в XIV в. обе половинки шосс слились в единый предмет туалета – аналог современных штанов. Шоссы могли как плотно облегать тело, так и быть достаточно просторными. Характерно, что шоссы в то время носили и женщины, и лишь позже у них отняли это право, за которое пришлось вновь бороться в эпоху эмансипации.
В раннем Средневековье камиза не считалась нижней рубашкой в современном смысле слова, но поверх нее надевали еще одну рубаху – блио105. Запад вообще долго, почти до Нового времени, не знал понятия «белье». В гардеробе также присутствовал простейший плащ, иногда с капюшоном – прямоугольный кусок материи, скреплявшийся на плече или груди фибулой (застежкой). Поначалу он был настолько короткий, что покрывал лишь верхнюю часть тела. Женщины закутывались в простую накидку, а зимой носили грубо выделанные овчинные тулупы. Обувь с заостренным и удлиненным носком целиком шили из кожи, без твердой подошвы. Предназначалась она исключительно для закрытых помещений или верховой езды. По улице ходили либо в деревянных башмаках, либо и вовсе босиком.
Единственным «знаковым» предметом гардероба были перчатки и рукавицы, которые первоначально являлись предметом обихода крестьян, использовавших их в работе при прополке и жатве. Но постепенно они были заимствованы феодалами и приобрели символическое значение. Вручение перчатки стало означать феодальный оммаж, церемонию символического характера, присягу, оформлявшую заключение вассального договора. Напротив, бросая кому-нибудь перчатку, аристократ выражал свое презрение.
В целом, в раннем Средневековье конструкция костюма была очень примитивной и одинаковой для всех – мужчин и женщин, знати и простонародья, духовенства и паствы. Он отличался качеством материала и украшениями, но не покроем. Безусловно, босой, в коротких брэ крестьянин, стоящий на пашне по колено в грязи, отличался от священника или рыцаря в доспехах. Однако в домашнем быту домотканые одежды рыцаря, ничем не выделяли его из челяди. Только спустя несколько веков гендерные и социальные отличия отразились и закрепились в одежде. В романе уже упомянутого Кретьена де Труа «Эрек и Энида», датируемого ок. 1170 г., так описан наряд Эниды, дочери дворянина, разоренного феодальными междоусобицами:
…НебогатБыл этой девушки наряд;Рубашка скромного покрояИ платье белое простоеИз домотканого холста.Во всём сквозила нищета.До дырок износилась ткань,Жалка, убога эта рвань,Но тело, скрытое под нейТем и прекрасней и нежней.106Большая часть гардероба в Средние века изготавливалась в домашнем хозяйстве – не только крестьянская одежда, которую кроили из домотканого холста и шерсти, но и одежда феодала, поступавшая в виде ренты. Только с ростом городов в XI—XII вв. появились цехи портных, изготовлявших костюмы по заказу или на рынок, а знать и горожане стали одеваться в купленные ткани.
Что касается костюма духовенства, еще в конце VII в. римская церковь осуждала только зарождавшийся обычай священства носить особые одеяния. Но постепенно так называемая литургическая одежда обособляется: духовенство начинает носить костюм, отличный от платья мирян, сложившийся, вероятнее всего, под византийским влиянием. Постепенно появляются отличия в костюме простолюдинов и знати. Первые разграничения были продиктованы скорее экономическими ограничениями, и начались с цвета, – ведь процесс окрашивания был дорогим удовольствием. Простолюдины довольствовались простой некрашеной одеждой, либо простейшими темными цветами, тогда как знатные люди одевались в зеленое, синее, красное. Значение имело также качество выделки тканей и особенно орнамент и наличие украшений в одежде знатных лиц.
В целом, система социальных различий проявлялась в костюме на протяжении почти всего Средневековья в виде деталей: цвета, каймы, нашивок и качества материалов. Всё остальное оставалось по-старому вплоть до XII в., когда прежде всего во Франции готический костюм становится более облегающим, а грубая, не кроенная по частям одежда сменяется платьем, более приспособленным к фигуре. Поэтому описание костюма рыцаря Круглого Стола у Кретьена де Труа в «Эреке и Эниде», если и воспринимать как достоверное, то, скорее, его достоверность относится ко времени написания, т.е. к середине XII в.
Чуть дальше всадник молодой,Эрек по имени – геройИ рыцарь Круглого Стола.Прославлены его делаВ те дни за доблесть никогоТак не хвалили, как его.На дорогом конеОн скачет, дам сопровождая,В плаще из шкурок горностая,В богатой куртке для охотыИз шелка греческой работы,Гамаши дорогой парчиТак скроены, что и не ищиИскусней и честней работы.Горит на шпорах позолота.Только к Высокому Средневековью в XIII в., вместе с появлением в духовной сфере интереса к конкретному человеку, с его конкретной душой и телом, появляется новое платье, сшитое по фигуре, с отдельно скроенными частями.



