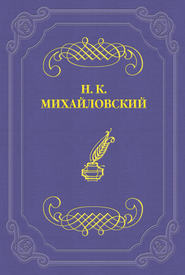 Полная версия
Полная версияГ. И. Успенский как писатель и человек
Нельзя ли с тоски-то с этой кинуться в мир фантазии и там, на свой собственный страх и риск, создать приятную фигуру «нового человека», который воспринял бы новую мысль во всем ее объеме и всем существом своим, вообще создать образец высокого, честного, сильного, правдивого и не мирящегося с наследием прошлого, но при этом и неуязвленного больною совестью? Можно. Это делали многие беллетристы. В литературе нашей существует целая коллекция романов, в которых фигурируют «новые люди» и которые производили в свое время известную сенсацию, но ныне почти забыты. Успенский посвящает этой литературе любопытную страницу в очерке «На старом пепелище». Он вполне признает ее историческую законность. В том обществе, которому казалось, что оно вдруг разорвало всякую связь с своим прошлым, необходимо должен был явиться запрос на изображение совершенно новой жизни и новых людей, и чтобы все в этих людях было добро зело, как в первые дни творения. Взволнованная Крымской войной, затем освобождением крестьян и другими реформами общественная совесть требовала великого, сильного, честного, в противоположность тому постылому прошлому, от которого она только что отвернулась. Романисты удовлетворяли этой потребности. Все это так. «Но, – говорит Успенский, – между этими крайностями, то есть между недавним беспримерным нравственным падением и беспримерною жаждою нового и возвышенного, есть третья черта, черта подлинного состояния общественной души, забытая авторами, и старыми, и новыми: эта черта – страдание. Новый автор, рисуя для пробужденной совести образцы, в которые должно бы облечься это пробуждение, но не говоря ни слова о страданиях, о борьбе с самим собой, страданиях и борьбе, которые неизбежно должны были обрушиться на всякого обессиленного нравственно человека, поставленного в необходимость быть нравственно сильным, – автор делал большой промах: он предоставлял измученному представителю толпы биться как рыба об лед и давал полную возможность врагам своих идеалов во все горло хохотать над ошибками, бессилием, недомыслием человека, торопившегося перебраться с одного берега на другой, торопившегося от неправды, бессовестности уйти к совести и правде во всем».
Труден путь общественного обновления. Трудно прилаживаются к новой мысли люди, в течение веков воспитывавшие в себе, по выражению нашего автора, «свиной элемент». Новая мысль «жертв искупительных просит»{24}: она, как женщина, в болезнях родит чад. Даже успехи ее, по крайней мере на первых порах или тотчас после первого розового и не особенно надежного настроения, должны выразиться мучительным сознанием неуравновешенности, больной совести. Чем ярче свет новой мысли, тем, при условии полной искренности, сильнее освещает он потаенные закоулки души, где гнездятся остатки прошлого. Надо вконец истребить в себе эти остатки, и тогда получится новая, высшая гармония взамен разрушенной. Лучше быть недовольным человеком, чем довольной свиньей, как сказал древний мудрец{25}. Раз увидев свет, никто не захочет вернуться к тьме. Раз заболев совестью, мудрено вернуться к прежнему душевному равновесию, еще не обеспокоенному острыми иглами совести; но эти иглы производят боль, и надо искать выхода.
Герой очерка «Хочешь-не-хочешь», некий Петр Васильевич, нашел выход. Казнокрад, буян, развратник, он уже стариком получил «просияние своего ума», как выражается другой герой Успенского. Получил просияние и «покаялся»: отказался от семьи, от всех выгод и удобств своего положения, ушел из дому и, проживая в своей бывшей деревне тайно от жены, которой некогда наделал много неприятностей, и изредка, тайком же, взглядывая на своего сына, стал, как умел, лечить крестьян и, как мог, учить крестьянских ребятишек. Этим путем он достиг душевного равновесия. Каясь за свое прошлое, он не имел в чем упрекнуть себя в настоящем и спокоен и светел, как дитя. «У меня вот шляпа поярковая, – говорит он, – коровьим составом я ее вымазал, запек в печи – она у меня на двести лет, а там, в ваших-то местах (то есть в „господской“ среде), отдай пять да десять… да неведомо сколько другого при-чендалу потребуется хоть бы к одной к одеже… Не надо этого… Стыдно! Вот ребятишки иной раз листа бумаги ждут по полугоду, а я буду в лорнет смотреть?» Так вот как достигается душевное равновесие.
III
«Болезнь сердца», «болезнь мысли», «болезнь совести»– это у Успенского синонимы. Мысль и чувство, безжалостно и неподкупно сверлящие душу, принимают для него почти исключительно форму совести, то есть сознания виновности и жажды соответственного искупления и покаяния. Но совесть – не единственная сила, способная сверлить душу. Человек, охваченный угрызениями совести, стремится наложить на себя епитимьи и всячески урезать свой жизненный бюджет. Для себя ему ничего не нужно. Напротив, заморить грызущего его червяка он только и может лишениями, и потому он не только готов принять всякие оскорбления, даже до мученического венца, а сам ищет их. Препятствия для этой работы совести могут найтись только в самом субъекте, в его «свином элементе», если такой сохранится, а внешняя обстановка с таким человеком ничего не может сделать: для него лично, пожалуй, даже – чем хуже, тем лучше. Взять хоть бы того же Петра Васильевича: чем больше холода и голода на него обрушивается, чем униженнее его положение, тем он светлее душой. Но в таком чистом виде работа совести встречается редко, хотя бывают целые исторические эпохи, ею окрашенные. Обыкновенно же коррективом его является работа чести, которая столь же способна нарушать гармонию «свиного элемента», только с другого конца, и точно так же может стать мотивом глубочайшей драмы. Работа совести и работа чести отнюдь не исключают друг друга Между ними возможно практическое соглашение, они могут уживаться рядом, пополняя одна другую. Но они все-таки типически различны. Совесть требует сокращения бюджета личной жизни и потому в крайнем своем развитии успокаивается лишениями, оскорблениями, мучениями; честь, напротив, требует расширения личной жизни и потому не мирится с оскорблениями и бичеваниями. Совесть, как определяющий момент драмы, убивает ее носителя, если он не в силах принизить, урезать себя до известного предела; честь, напротив, убивает героя драмы, если унижения и лишения переходят за известные пределы. Человек уязвленной совести говорит: я виноват, я хуже всех, я недостоин; человек возмущенной чести говорит: передо мной виноваты, я не хуже других, я достоин Работе совести соответствуют обязанности, работе чести – права. Повторяю, исключительные люди совести, как и исключительные люди чести, составляют большую редкость; обыкновенно мы видим смешение этих двух начал в той или другой пропорции. Но в данную минуту герой драмы может находиться под исключительным влиянием того или другого элемента. И ясно, что болезнь чести имеет полное право стоять рядом с болезнью совести. Ясно, что драма оскорбленной чести может быть столь же сложна, глубока и поучительна, как и драма уязвленной совести.
Успенский, сосредоточив свое внимание на драме совести, почти совсем в стороне оставляет драму чести. Говорю – почти совсем, потому что некоторые намеки в этом направлении у него есть. Самый крупный из них – фигура Михаила Ивановича в «Разоренье». Едет Михаил Иванович в Петербург полный самых радужных надежд, что, добравшись там до сильных людей, он им расскажет, как обижают и притесняют простого человека, который, однако, не хуже других. На железной дороге он приятно поражен в своем настороженном чувстве чести теми «вы», «пожалуйте», «сделайте одолжение», с которыми к нему обращаются. Вместе с случайным дорожным знакомцем, пьяненьким мужиком, они делают разные опыты для удостоверения, что они не хуже других. Все удается: с ними неизменно вежливы, железнодорожные правила применяются к ним совершенно в той же мере, как и к пассажирам «из господ». Но вот на одной из станций Михаил Иванович, обнявшись с мужиком, подходит к буфету с намерением выпить и закусить, подобно прочим.
– Бутенброту! – грозно восклицает мужик, вламываясь в толпу у буфета, но, увидав господ, пугается, снимает шапку и бурчит:
– Дозвольте бутенброту, васкбродие!..
Михаил Иванович обижен таким поведением мужика, и тот сам чувствует свою вину. Это пустяки, конечно, но солнце отражается и в малой капле вод. «Новая мысль» преломилась в головах Михаила Ивановича и его спутника в форме чести, но они не приладились к ней, не привели в равновесие свое прежнее содержание и новую мысль. Отсюда это нелепое «грозное» восклицание мужика и быстро следующая за ним трусость. Этот мотив не разработан в сочинениях Успенского, частью, может быть, по внешним условиям, но частью и по самым свойствам его таланта и его умонастроения. Он часто рисует разных насильников, обидчиков, тиранов, но комические черты в этих рисунках расположены так, что весь этот люд, хотя и много зла делающий, оказывается пустопорожним и ничтожным. Таков, например, Павел Иванович Печкин. Такова в рассказе «Захотел быть умней отца» мрачная фигура злодея отца. По-видимому, это не только мрачная, но и очень большая сила: но всей этой силы только на то и хватило, чтобы загубить сына, что вовсе не трудно было. В сущности, какая же это сила? Это что-то злое, мимолетно торжествующее, но ничтожное до смешного, и завтра же, может быть, от него не останется ни праху, ни памяти. Поэтому сына этого смешного и ничтожного злодея Успенский не счел нужным даже показать нам, а между тем драматическое положение этого сына коренится, конечно, не в уязвленной совести, а в оскорбленной чести, которая, таким образом, и остается за кулисами. Сверх того, к анализу именно больной совести, даже в ущерб всему прочему, Успенского влечет родственность его художественного аскетизма с аскетизмом житейским. Сам он суживает свои права как художника до последней возможной степени и отказывается от всякой роскоши красок, линий, образов. Поэтому и в жизни ему симпатичнее или по крайней мере интереснее то восстановление душевного равновесия, которое достигается со стороны совести, то есть при помощи лишений и отказа от всего яркого и цветного. Как бы то ни было, но это большой пробел в деятельности Успенского. Мы еще встретимся с этим обстоятельством ниже, а теперь, возвращаясь к прерванному разговору о покаявшемся Петре Васильевиче («Хочешь-не-хочешь»), я замечу следующее. Аскетизм Петра Васильевича, на котором отдыхает, наконец, глаз художника, оскорбленный зрелищем неуравновешенности, отнюдь не имеет созерцательного характера. Это не тот аскет, который залезает на столб или удаляется в леса и болота и там, никого не видя, только сокрушается о своих грехах. Он аскет деятельный, постановивший себе задачей служить ближнему делом: он лечит больных и учит ребят. Это важно заметить для дальнейшего.
Как бы ни было успокоительно для глаза, ищущего гармонии, зрелище того душевного равновесия, которого достиг Петр Васильевич, но это во всяком случае исключительное явление. Это, пожалуй, тоже своего рода «новый человек». Правда, указан и назван путь, которым он добрался до своего пьедестала – путь страдания. А все-таки Петр Васильевич на пьедестале стоит, на возвышении, недоступном большинству. Глаз, оскорбляемый неуравновешенностью, может на нем только временно отдохнуть и затем по необходимости должен перейти к явлениям более обыденным и опять оскорбляться и опять искать гармонии.
Успенский отправился с своими поисками в деревню. Это как раз совпало с усиленными литературными толками о народе, в которых Успенский занял совершенно оригинальную позицию. Он ушел в деревню все с той же преследующей его мечтой найти отдых глазу, оскорбленному неурядицей, бестолковостью и противоречивостью явлений жизни. При этом была, очевидно, и надежда, что там, в деревне, где жизнь сравнительно не сложна, где поярковая шляпа, вымазанная коровьим составом, до которой едва дострадался Петр Васильевич, есть вещь вполне обыкновенная; что там легче найти равновесие между нравственными понятиями и фактическим строем жизни, между потребностями и способами их удовлетворения, между словом и делом. Разное, однако, ожидало его там, и он, с свойственною ему нервною торопливостью и искренностью, предавал тиснению все, что он видел, думал, чувствовал. Тут были и разочарования, и радости. Не раз сбегал он из деревни то в Европу, чтобы его там «выпрямила» Венера Милосская, то в ту же Европу, чтобы посмотреть, как живут люди, хорошо ли, худо ли, но вполне сознательною жизнью, то к далеким кавказским сектантам, то к измученным русскою болезнью совести добровольцам в Сербию, но все-таки возвращался все в ту же деревню, и опять искал там, и мучился, и радовался. Так как одно время литературные толки о народе вызвали было в обществе некоторое движение в направлении к деревне, то Успенский и эти попытки сближения с народом ввел в круг своих наблюдений и размышлений. Люди искренней мысли всегда высоко ценили деревенские впечатления Успенского, ибо они, по своей необыкновенной правдивости, всегда заслуживали по крайней мере быть принятыми к сведению при обсуждении живого дела. Но ко всякому живому делу пристраиваются разные узколобые доктринеры и кляузники, стремящиеся омертвить его и тем низвести до своего уровня. Таким не могла нравиться деятельность Успенского, слишком для них живая и смелая. Они решительно терялись – какой, собственно, ярлык на него навесить, а ярлыков собственного изобретения у них было много: не то «народник», не то только «народолюбец», не то еще какой-то и даже «презрительно и высокомерно относится к народу»{26}. Это не было скромное и естественное «недоумение нулей, к какой пристать им единице»{27}. Нет, нули, круглые нули комически негодовали, что к ним не пристают действительные величины. Успенский оставался, конечно, все тем же Успенским и шел своей мучительно трудной дорогой. Я не буду следить за всеми перипетиями его поисков идеала в деревне и остановлюсь только на нескольких крупных чертах.
Между прочим, Успенский пришел к парадоксальному, по-видимому, выводу, что в народной среде (а может быть, и не в ней одной) улучшение материального положения не только не ведет к действительному благосостоянию, а, напротив, губит людей, опустошая их нравственно, а затем приводя к вящему разоренью. Мысль эта его очень занимает: он развивает ее и в нескольких отдельных очерках (например, «Перестала!», «Взбрело в башку» и проч.), и в единственном своем более или менее законченном произведении «Власть земли», и в статьях «Без своей воли», «Из разговоров с приятелями», составляющих как бы послесловия к «Власти земли». Отсюда, на поверхностный взгляд, могут быть сделаны некоторые крайне удивительные заключения, отнюдь не мирящиеся с общим характером деятельности Успенского. Но приглядевшись ближе, увидим прежде всего, что Успенскому не до эффектных парадоксов. Он пристально вглядывается в поразившее его явление, ищет его смысла и производит эту операцию не в кабинете, в тиши которого можно расположить свои наблюдения и выводы в стройную систему, а, так сказать, на людях: вы видите не только результаты работы, а и процесс ее. Об этом, впрочем, уже говорено выше, и если я теперь возвращаюсь к этому обстоятельству, так только для того, чтобы иметь право для объяснения истинного смысла вышеприведенного парадоксального вывода по-своему располагать разные отдельные места сочинений Успенского.
В очерке «Без своей воли» записаны разговоры трех приятелей. Один из них, только вернувшийся из какой-то поездки, передает, между прочим, слышанный им рассказ о том, что народился антихрист. Народился он не у нас, а в «каком-то особом царстве». Вот как будто бы было дело.
Нанялся к некоему князю повар и тотчас же начал всячески угождать и делать добро остальной прислуге. Слухи об его доброте стали распространяться и дошли до самого князя, который полюбил его, а этою любовью повар воспользовался опять-таки на благо разных обращавшихся к нему за помощью бедных, простых людей. Со всех сторон валил к нему черный народ с своим горем и нуждой, и все получали помощь, всем он выхлопатывал у князя кому что нужно. Так дело и теперь стоит: повар все благодетельствует и помогает простому бедному люду. Но лет примерно через двадцать произойдет следующий случай. Надо заметить, что благодетельный повар никогда не снимает с рук белых перчаток. И вот князь созовет к себе в гости «прочих всех китайских и эфиопских князей», и будет им служить повар в белых перчатках. Гости – «князья и разные султаны»– заинтересуются этим и попросят князя-хозяина, чтобы он приказал повару снять белые перчатки. Князь прикажет, но повар дважды откажется исполнить приказание, и только когда князь в третий раз с гневом прикажет, повар с гневом же сорвет белые перчатки. Тогда все князья и султаны увидят, что повар есть антихрист: на одной руке у него окажется копыто, на другой – когти. Все князья и султаны в ужасе разбегутся, в том числе и хозяин. Народ, помня благодеяния повара, выберет его князем, но вместо ожидаемых милостей он с первого же дня обнаружит необузданную жестокость. В особенности плохо придется тем, у кого руки окажутся «чистыми, нежными, без мозолей, то есть без этих копыт и когтей». Чтобы спастись от гибели, все белоручки начнут хвататься руками за землю, начнут рыть ее и все-таки будут гибнуть. А так как и у мужиков мозоли будут проходить (от хорошей жизни, которую антихрист устроил им, будучи поваром), то вслед за белоручками, уничтоженными по повелению антихриста, станут уничтожать и обелорученных мужиков. Потом начнется пожар земли, воскресение мертвых, страшный суд.
Один из собеседников, выслушав этот рассказ, замечает, что «эту легенду об антихристе он на своем веку слышал несчетное число раз; антихрист всегда является в ней в разных видах, но всегда решительно, во всякой из легенд, он ознаменовывает свое пришествие добрыми делами. Он всегда завоевывает симпатии народа, делая ему приятное, облегчая ему жизнь… Почему же зло, гибель, несчастие и вообще последние дни, кончину мира народ полагает после того, как будут необыкновенно легко исполняться все желания, снимутся все тяготы?»
Признаюсь, я никогда не слыхал такой русской легенды об антихристе. Полагаю, что она не коренного русского происхождения. Она невольно напоминает следующее иранское сказание. После тысячелетнего царствования Иема, в течение которого люди были так счастливы, что не знали даже голода и жажды, на престол вступил нечестный Дахака. Сам Ариман поступил к нему на службу в виде повара. Повар этот стал постепенно приучать Дахака к мясной пище. До тех пор люди питались только растительной пищей, а тут стали есть сначала яйца, потом птиц, потом говядину. Дахак был очень доволен гастрономическими нововведениями, но когда однажды повар Ариман поцеловал царя в оба плеча, то из тех мест, куда пришлись поцелуи, выросли две змеи, а повар исчез. Змей отрезали, но они опять выросли, и опять, и опять. Тогда повар вновь появился, но уже в виде врача, и посоветовал кормить змей человеческим мозгом. И т. д. История кончается благополучно – низвержением Дахака и торжеством добра.
Я не знаю, родственно ли это сказание с легендой об антихристе, приводимой Успенским, фактически. Но они родственны по содержанию; и не только потому, что там и тут воинствующее злое начало – антихрист и Ариман – принимает обличье повара, а и потому, что там и тут повар является источником удовольствия, наслаждения, которое оказывается, однако, пагубным. Но в иранском сказании двусмысленный характер благодеяний злого начала раскрывается яснее. Дело не в благодеяниях вообще, а специально в предоставлении новых наслаждений, дотоле народу неизвестных, причем, может быть, имеет значение и то, что наслаждения эти низшего порядка – гастрономические. Иранское сказание видит торжество зла не в том, что «будет необыкновенно легко, исполнятся все желания, снимутся все тяготы», а в том, что водворится роскошь, люди захотят лишнего, того, что прежде было им даже неизвестно. Это гораздо проще и понятнее, но, может быть, та же мысль лежит и в основании легенды об антихристе, только замаскированная. Если бы это последнее могло быть доказано, то стало бы вместе с тем понятно, что постоянно звучащей в Успенском аскетической струне симпатична легенда об антихристе: в ней ведь та же струна звучит. Но, как уж было замечено выше, близкий сердцу Успенского аскетизм отличается деятельным характером. Он сам слишком впечатлителен и деятелен, чтобы другим рекомендовать и себе позволить спокойное созерцание, хотя бы возможность его и была достигнута отрешением от всего «лишнего» и от всякого греха, с этим «лишним» связанного. А это обстоятельство вносит в аскетическую программу такую огромную поправку, что в известном смысле она даже перестает быть аскетическою.
В очерке «Перестала!» Михайло говорит, что «нам свою мужицкую силу нельзя по ветру распускать, нам нужна запряжка, чтобы дохнуть некогда было». Это Михайло говорит, умудренный горьким опытом и получив «просияние своего ума» от калашницы Артамонов-ны, которая вновь наладила его разбитую было семейную жизнь. Артамоновна вот как допекала Михайлу и его жену: «Глупый ты, безбожный и безрассудный балбес! До чего ты довел свою жену и до чего сам себя произвел? Не дурак ли ты? Хотел прожить с женой весь век за самоваром; думал ты, дурак, что будет она тебе благодарна, ежели ей только чай с сахаром пить, а никакого беспокойства не иметь? Куда ж она силу-то свою денет, подумал ли ты? Ведь у ней, у жены-то твоей, на четырех баб силы-то хватит, а ты думаешь чаем ее отпоить?.. И этакую-то золотую бабу ты, балбес, думал на всю жизнь оставить без затруднения? Почему же ты не делаешь ей в жизни затруднения? Ведь она всего хочет, понимаешь ли ты? Ей всего нужно. А ты самоваром хочешь отбояриться?» Жена Михайлы тоже получает от Артамоновны наставление: «А ты-то, балалайка бесструнная, что думала? Ты бы хоть мужу на портянки холста наткала, так и то бы тебе потрудней было, повеселей. Ах вы глупые, бессовестные! Задумали без крестьянского хомута век вековать!»
Итак, между словами «потрудней» и «повеселей», выражающими, по-видимому, такие резко отличные понятия, может быть поставлен знак равенства. Итак, на человека должно быть навалено столько работы, чтобы ему «дохнуть некогда» было. Тогда и только тогда настанет мир в его душе, но не на почве отречения от радостей жизни; напротив, тут-то и достигнется настоящая радость, и человек, который «всего хочет», которому «все нужно», «все» и получит. Михайло и его жена в очерке «Перестала!» не исключительные какие-нибудь явления. Совершенно как у Михайлы, у Ивана Босых во «Власти земли» расстройство материальное, расстройство семейной жизни и всякое другое пошло «от легкой жизни». Так и народ понимает дело, как видно из легенды об антихристе. Нужен труд, ужасно много труда, так чтоб «дохнуть некогда» было, по выражению Михайлы.
Как раз под этим заглавием: «Дохнуть некогда»– у Успенского есть превосходный очерк, одно из лучших его произведений по яркости фантазии, по богатству юмора, по ясности мысли, по редкой для него художественной законченности. В этом очерке усиленный труд, труд почти каторжный и во всяком случае такой, что «дохнуть некогда», представляется уже в совершенно другом освещении. Он является здесь источником не мира душевного, а, напротив, вечной тревоги. Михайло, Иван Босых и другие подходят к самому краю пропасти или ввергаются в нее «от легкой жизни», и спасение их в труде до предела, «дохнуть некогда». Судебный пристав Апельсинский, исправник Арапкин, смотритель маяка и другие, фигурирующие в очерке «Дохнуть некогда», становятся героями мучительных драм, напротив, именно потому, что заглавие очерка приходится им по шерсти; их гибель именно в нелегкой жизни, они уж никак не поставят знака равенства между словами «потрудней» и «повеселей». Значит, есть труд и труд; труд благотворный для трудящегося и труд губительный; труд, прекращающий мучительную драму всяческого расстройства, и труд – источник этой драмы. Постараемся рассмотреть эти два типа драмы отдельно; постараемся, потому что Успенский сам часто их сопоставляет, не легко обойти эти авторские сопоставления.
В деревне происходят разные непорядки. Это ни для кого не тайна. Благонамеренные люди разных оттенков знают и причины этих непорядков, лежащие в экономических условиях. Знает их и Успенский, знает, конечно, лучше многих рассуждающих об этом предмете. Но его интересует главным образом не эта сторона вопроса. Magenfrage, как сказал бы немец, поднимается для него до степени Seelenfrage, или, как выражается он сам, вопрос «народного брюха» до степени вопроса «народного духа». «Земля» есть не только источник мужицкого пропитания, но и главнейший фактор, определяющий все миросозерцание крестьянина и весь его житейский обиход. «Брак, семья, народная поэзия, суд, общественные работы и т. д., и т. д.» – все стороны народной жизни проникнуты влияниями земледельческого труда. И эта-то «власть земли» как всеопределяющий фактор установляет гармонию в народной жизни, гармонию, до которой нам, разрываемым на части и собственною совестью, и внешними условиями своего существования, как до звезды небесной далеко. Из этого не следует, однако, чтобы все было благополучно в народной среде.



