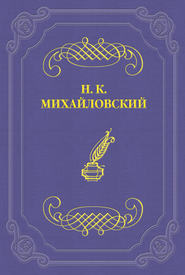 Полная версия
Полная версияЕще о Ф. Ницше
Таким образом, Сократ оказывается родоначальником и пессимизма с его девизом «жизнь ничего не стоит», и, по крайней мере, «теоретического» оптимизма, умеющего так или иначе извлекать из жизни радости. Противоречия – совсем не редкость в сочинениях Ницше, а в данном случае противоречие было бы даже вполне извинительно ввиду тех семнадцати лет, которые отделяют «Geburt der Tragodie» от «Gotzendammerung». Но здесь, собственно говоря, нет и противоречия. Как с одного и того же возвышенного пункта реки могут течь в разные, прямо противоположные стороны, так и с Сократа могут начинаться два противоположных течения. С точки зрения Ницше, важно только, что и в том, и в другом случае мы имеем движение вниз, падение, декаданс. «Geburt der Tragodie» посвящена анализу судеб древнегреческой трагедии, и мы не будем вдаваться в специальный вопрос о том, как влияние Сократа гибельно отразилось на этих судьбах и повлекло трагедию к упадку. Мы имеем в виду упадок вообще человечества, на что есть указания и в «Geburt der Tragodie», но в других сочинениях эта сторона дела устанавливается ярче, определеннее, и здесь мы отметим пока только мелкость и непрочность того, что Ницше называет теоретическим оптимизмом. Ему уже Кант подрезал крылья. До Канта «теоретический человек» мог верить в возможность познать и разгадать все мировые загадки и относиться к пространству, времени и причинной связи, как к безусловным и всеобщим законам. Кант показал, что эти категории только прикрывают и делают для человеческого познания недоступною истинную сущность вещей. Стоит только сравнить гетевского Фауста, прошедшего все факультеты и в отчаянии отдающегося чертям, с Сократом, чтобы увидать естественный ход и исход теоретического оптимизма. Теоретический человек когда-то бросился в открытое море познания и долго с восторгом плыл в нем дальше и дальше, но, не видя конца плаванию, убедившись, что и нет ему конца, утомившись, затосковал о береге: оптимизм разрешился тоской, меланхолией, пессимизмом. Существуют, однако, и доселе жизнерадостные теоретические человеки, но это или «библиотекари и корректоры, слепнущие от книжной пыли и опечаток», о которых и говорить не стоит, или те гордые, вверху стоящие, о которых Ницше говорит в статье «Vom Nutzen und Nachtheil der Historie fur das Leben» (Unzeitgemasse Betrachtungen, I). Вступление к этой статье начинается цитатой из Гете, которого Ницше вообще чрезвычайно высоко ценит: «Мне ненавистно все, что меня только поучает, не усиливая моей деятельности или непосредственно не оживляя меня».
Мы можем на минуту приостановиться. Цитата из Гете, вместе с язвительной выходкой против победоносных немцев, которым Бисмарк заменяет философов, поэтов и хорошие книги, указывает, не вполне, разумеется, точно, – потому что точность тут и невозможна, – те пределы, в которых Ницше считает жажду знания и возлагаемые на него надежды законными. Когда барабанно-патриотическая песня и личность железного объединителя Германии заглушают и заслоняют всякие умственные интересы, Ницше негодует. Но, с другой стороны, ему, как и Гете, ненавистно все, что только поучает. Отсюда так дурно понятый Максом Нордау скептицизм Ницше по отношению к знанию. Отсюда же странные на первый взгляд слова в предисловии ко второму изданию «Frohliche Wissenschaft»: «Нас не потянет больше на путь тех египетских юношей, которые проникали ночью в храмы, обнажали статуи и старались все прикрытое открыть, вывести на белый свет. Нет, мы перестрадали этот дурной вкус, эту жажду „знания во что бы то ни стало“: мы для нее слишком опытны, серьезны, веселы, глубоки. Мы больше не верим, что истина остается истиной, если с нее снять покрывало. Ныне нам представляется делом приличия не все видеть обнаженным, не все хотеть понимать и знать». Надо заметить, что все предисловия самого Ницше ко вторым изданиям его сочинений, как было позднее, написаны особенно странным языком и носят на себе явную печать если не совсем расстроенного, то во всяком случае беспокойного, смятенного духа. Но и здесь, среди разных странных выходок, ведется все та же основная линия, которую, несмотря на все ее извороты и осложнения, можно проследить от первого до последнего сочинения Ницше. Так и только что приведенные странные слова из предисловия к «Frohliche Wissenschaft» имеют свое место в самой сердцевине философии Ницше и получают даже редкое у него систематическое развитие в упомянутой уже части «Unzeitgema_sse Betrachtungen». Там, между прочим, читаем: «Историческая точка зрения, если она прилагается к делу без ограничений и с полною последовательностью, подрывает корни будущего, потому что разрушает иллюзии и лишает существующие вещи той атмосферы, в которой они только и могут жить». Что же это за «иллюзии», разрушения которых надо остерегаться, и покрывала, которые не надо снимать с истины? Этот вопрос, любопытный в наше трезвое время вообще, получает особенную пикантность по отношению к Ницше: ведь он, как знает большинство читателей понаслышке, крайний материалист, отвергающий «законы, совесть, веру», разрушитель всех иллюзий. Ведь г. Грот, например, утверждает, что Ницше хочет «дать в жизни человека торжество разуму и трезвому анализу», что он «рационалист, ищущий в разуме последнего критерия истины» («Нравственные идеалы нашего времени» в «Вопросах философии и психологии», 1893, январь, с. 135, 141). И как же не поверить г. Гроту, ex officio поучающему нас по части философии и с кафедры, и в специальном журнале? С другой стороны, однако, как же нам не поверить самому Ницше, когда он объявляет «разумность» Сократа той соломинкой, за которую схватилась морально разлагавшаяся Греция и которая все-таки не спасла ее, а дала новый и притом двойной толчок к упадку; когда он становится на страже «иллюзий» и объявляет частью ненужным и вредным, «неприличным», как он выражается, а частью невозможным снимать покрывало с Изиды? И, повторяю, заметьте, это самая сердцевина всей философии Ницше. Мы значительно приблизимся к правильному пониманию этой философии, если с буквальною точностью повторим определения г. Грота, но с прибавкой отрицательной частицы не: Ницше не рационалист, Ницше не хочет давать в жизни человека торжество разуму и трезвому анализу…
Итак, об иллюзиях, безнужно или неправильно, или вредоносно подрываемых исторической точкой зрения. Статья, в которой о них речь идет, озаглавлена «О пользе и вреде истории для жизни». Я не буду передавать взгляды Ницше на пользу истории, они здесь для нас не представляют особенного интереса, да и из читателей никто, конечно, в пользе истории не сомневается. Я только прошу заметить, что Ницше вполне признает пользу истории в тех случаях и пределах, в которых она служит жизни. Но бывает и наоборот. Бывает, что история не только не служит жизни, а ее к себе требует на службу. Уже из того, что мы до сих пор узнали о Ницше, ясно, как высоко ценит он жизнь, жизнь во всей ее полноте, со всеми цветами ее радуги, жизнь для жизни. Для него одинаковы симптомы упадка – и пессимизм с аскетизмом, как непосредственное, так сказать, количественное умаление жизни, и оптимизм, по крайней мере теоретический оптимизм, качественно умаляющий жизнь, односторонне перенося центр тяжести ее в одну из ее функций, в функцию познания. Когда-то мне случилось мимоходом предложить разделение людей на разбитых, забитых и борцов. С точки зрения Ницше, разбитые оказались бы пессимистами, забитые – оптимистами (теоретическими), а сам он – борцом, который ждет наилучших результатов от своей деятельности, но именно от нее и готов принять всякую скорбь и боль, под условием опять-таки действенного отношения к жизни. Он хочет жить – жить во вся, не разумом только, но и чувством, и волей, быть может прежде всего волей. Этому-то и препятствует то, что он называет Uebermaas der Historie, чрезмерностью истории. Известная доля «исторического», т. е. связанного с воспоминаниями о прошлых делах и событиях, необходима для жизни, но столь же необходима для жизни и для самой истории известная доля «не исторического», трепещущего мыслью и страстью данной минуты, без какого бы то ни было отношения к ее месту в истории. История в свое время разберет всю ту сложную сеть интересов, страстей, идеалов, запросов, из которых слагается физиономия данной минуты, и всему укажет настоящее место. Но пока эта минута длится, нужна известная атмосфера «не историческая». История уравняет одушевляющие нас идеалы в ряде других, отживших, похороненных, и укажет их корни в той или другой комбинации преходящих условий. Но сейчас они должны нас одушевлять как таковые, как идеалы, в правоту и возвышенность которых мы верим. Ни один художник не создаст своей картины, ни один полководец не одержит победы, ни один народ не добьется свободы, не проведя их предварительно через эту атмосферу не исторического. И все великое, достойное занять место в истории, совершалось именно так. Великие деятели справляются, конечно, с историей, черпая из нее уроки, но они не думают о том, чтобы идти непременно в такт с историей, они сами ее создают; они и по собственному мнению, и по мнению других часто идут наперекор истории, и это, конечно, иллюзия, но иллюзия необходимая, без которой не было бы и самой истории, и вообще жизни. Ныне часто говорят с торжеством, что наука, и в частности история, начинает управлять жизнью. Ницше полагает, что такое управление возможно, но должно повести к оскудению жизни. В действительности же это оскудение уперлось бы в полную невозможность. Представим себе, что история сорвала перед нами завесу будущего, и мы ясно видим свою собственную судьбу, судьбу детей наших, судьбу народов. «Как мимолетное виденье» эта картина была бы и занимательна, и способна взволновать горечью и радостью, смотря по тому, что в ней заключается. Но жить под ее давлением, именно давлением, было бы невыносимо для теперешней человеческой души. Все мы знаем, что будет то, что будет, что должно быть, но мы не знаем, что именно должно быть, и на этом построены наши надежды и опасения, вероятности и возможности победы и поражения, наш выбор жизненного пути, наша борьба за то, что мы считаем правдой, вся жизнь наша. Все это рухнуло бы или, если принять в соображение, что все это есть тоже продукт истории, осложнилось бы сознанием, что чья-то мощная рука насильно ведет нас к заведомо, может быть, неосновательным опасениям и заведомо несбыточным надеждам; да если и к основательным и к сбыточным, то раздвоенность наша была бы при этом не менее тягостна. Нет, для нас, по крайней мере, для теперешних людей, пускай эта статуя Изиды остается под покрывалом! Да ведь его и нельзя снять, это покрывало. Теоретически мы можем, должны говорить о необходимости известных, точнее неизвестных нам грядущих событий, но практически мы заключены в пределы вероятностей, возможностей и желательностей. И тех, кто желает так или иначе участвовать в жизни, а не присутствовать при ней, «чрезмерность истории» может заставить призадуматься. «Только сильный человек может выносить историю, – говорит Ницше, – слабых она подавляет». Исторические факты – «так было» – разрушительно действуют на энергию в настоящем, приучая слабых людей к мысли, что жизнь есть исполнение предначертаний истории. Тогда как, наоборот, жизнь должна давать тон истории, как в смысле направления хода событий, которые в свое время запишутся в историю науку, так и в смысле указания тем, которые эта история-наука должна разрабатывать. Слабые люди, изнемогшие под тяжестью истории, прячутся и в том, и в другом случае за слово «объективизм». Доходит до того, что лавры за беспристрастие стяжает историк, избирающий для исследования предмет, до которого ему никакого дела нет. Он выбирает того или другого папу или императора, тот или другой исторический период, ту или другую страну, – почему? Никому, ему самому неизвестно ничего: он объективен, для него все исторические факты равно достойны изучения. Но это еще только безразличие выбора и, может быть, в отмежеванном себе уголке историк еще окажется живым человеком. Бывает хуже, когда объективизм сводится просто к аналогии факта, каков бы он ни был. И здесь я приведу целиком страницу из Ницше.
«Я думаю, что среди опасных течений и шатаний немецкой мысли в нынешнем веке нет опаснее того огромного, до сих пор продолжающегося влияния, которым пользуется гегелевская философия. Уверенность, что нами заканчиваются времена, необходимо должна уродовать людей; но она становится страшною, когда дерзким оборотом мысли обожествляет нас, как представителей истинного смысла и цели всего доселе бывшего, когда мы свою духовную нищету объявляем завершением всемирной истории. Такой способ воззрения приучил немцев говорить о „мировом процессе“ и оправдывать свое время, как необходимый результат этого мирового процесса; этот способ воззрения поставил на место других духовных сил, искусства, религии – самодержавную историю, поскольку она есть „самоосуществляющееся понятие“, „диалектика духа народа“ и „мировой суд“. Эту по-гегелевски понятую историю насмешливо называли странствованием по земле божества, которое, однако, само создается историей. Но оно собственно в мозгу Гегеля объявилось и проделало все диалектические ступени бытия вплоть до своего обнародования. Так что для Гегеля высший и конечный пункты мирового процесса совпали в его собственном берлинском существовании. Он должен был бы сказать, что на все после него появившиеся вещи надо смотреть только как на музыкальное „Coda“ к всемирноисторическому „Rondo“, а еще вернее просто считать их излишними. Он этого не сказал. Но зато он водрузил в пропитанных им поколениях тот восторг перед „властью истории“, который практически ведет к открытому восторгу перед успехом и идолопоклонству перед фактом. Для этого изобретено выражение „считаться с фактами“. Но кто научился сгибать спину и склонять голову перед „властью истории“, тот китайски-механически вторит всякой власти вплоть до общественного мнения и численного большинства. Так как каждый успех содержит в себе разумную необходимость, каждое событие есть победа логики или „идеи“ – то живо на колени по всем ступеням лестницы успехов! И говорят, что господство мифологии кончено! Да посмотрите же на эту мифологию власти истории, обратите внимание на ее жрецов и на их ободранные колени. И все добродетели сопутствуют этой новой вере. Разве это не самоотвержение, когда исторический человек позволяет перелить себя в объективное зеркальное стекло? Разве это не справедливость – держать постоянно в руках весы и пристально смотреть, на которой из чашек более тяжести, силы? И какая превосходная школа приличия это отношение к истории-Все принимать объективно, ни на что не сердиться, ничего не любить, все понимать, – это делает мягким, гибким. А если кто-нибудь из воспитанных в этой школе иной раз и рассердится, то это ничего, все ведь понимают, что это только так, только ira и studium, и все-таки совсем sine ira et studio».
Ницше отмечает далее неизбежность столкновения между «чрезмерностью истории» и моралью. «Да, моралью! – говорит он. – Возьмите какую хотите человеческую добродетель, справедливость, великодушие, храбрость, мудрость, сострадание, – она всегда потому добродетель, что восстает против слепой силы факта, против тирании действительности и подчиняется законам, которые не суть законы исторических течений. Она плывет всегда против исторических волн, – борется ли она с собственными страстями, как с ближайшими глупыми факта-ми, иди обязывается честностью, когда кругом ложь плетет свою блестящую паутину… К счастью, история хранит и воспоминания о великих борцах против истории, то есть против слепой силы действительности, и сама себя ставит к позорному столбу именно тем, что как раз тех именно и выдвигает, как исторических деятелей, которые мало озабочивались тем, что есть, дабы с веселою гордостью следовать тому, что должно быть».
И еще: «Никогда историческая точка зрения не вздымалась так высоко. Теперь история человечества есть продолжение истории животных и растений; и в глубочайших глубинах моря всемирно исторический человек находит в живой плазме следы самого себя. У него голова кружится при виде этого огромного пути, который он прошел, и еще более при виде самого себя, современного человека, который может этот огромный путь обозреть. Он высоко и гордо стоит на пирамиде мирового процесса; кладя на нее последний камень своего познания, он точно хочет сказать прислушивающейся к его голосу природе: „Мы у цели, мы – сама цель, мы – завершенная природа“. О, прегордый европеец девятнадцатого века! ты бредишь. Твое знание не завершает природу, а убивает твою собственную. Попробуй сравнить высоту того, что ты знаешь, с глубиною того, что ты можешь».
Все приведенные мысли Ницше, за исключением одной, очень важной, к которой мы сейчас обратимся, проходят сквозь все его сочинения в более или менее ярком выражении, и если кое-что в особенности в отдельных афоризмах, им противоречит, то либо в подробностях, либо в очень малых, сравнительно, дозах. Читатель видит сам, насколько мы были правы, утверждая, в противность категорически высказанному мнению г. Грота, что Ницше не рационалист и не хочет давать в жизни человека «торжество разуму и трезвому анализу». Напротив, его первая дерзость, не столь громкая, как другие его дерзости, состоит в том, что он бросает «прегордому европейцу XIX века» в лицо упрек в бессилии, взращенном на почве излишнего доверия к разуму и «трезвому анализу». Ницше претит все, в чем он усматривает преобладание «разумности», в ущерб другим духовным силам человека и его естественным влечениям, инстинктам, как он обыкновенно выражается. Собственную, личную свою profession de foi, как мы видели в прошлый раз, выражает словами: «Я не знаю лучшей цели жизни, как погибнуть, animae magnae prodigus, на великом и невозможном». И таковы были, по его мнению, древние досократовские греки, расточавшие «силу всю души великую» на борьбу с роковыми силами, не опасаясь трагического исхода. Древний грек вероятностью этого исхода и даже уверенностью в нем не убеждался ни в ничтожестве жизни, ни в неправоте своего дела. Правоту этого дела он основывал на своем личном убеждении, на своей личной вере, а не на каких бы то ни было сторонних соображениях. В отстаивании своего дела даже до гибели он видел свое счастье, высшее содержание своей жизни.
С Сократа начался упадок в сторону приспособленного к обстоятельствам историческим и иным, разумно-добродетельного счастья или, как выражается безымянный герой «Записок из подполья», «непременно благоразумно выгодного хотения». Как бы кто ни смотрел на вышеизложенное, но до сих пор мы не видим в Ницше не только рационалиста, – это просто пустяки, – но и теоретика эгоизма, и «имморалиста» каким Ницше вообще считается и сам себя считает. До сих пор мы видим благороднейшего и смелого мыслителя, на иной взгляд мечтателя, идеалиста, ставящего свои требования с точки зрения чрезвычайно возвышенно понимаемого индивидуализма. Человеческая личность для него мерило всех вещей; но при этом он требует для нее такой полноты жизни и такого противостояния всяким выгодам и условиям, умаляющим ее достоинство, что об эгоизме в вульгарном смысле слова и о каком бы то ни было «имморализме» не может быть и речи. Пойдем дальше.
* * *Мы только что сказали, что через все сочинения Ницше проходят вышеприведенные мысли за исключением одной. Это та именно, что «мораль» и «добродетель» всегда восстает против слепой силы факта, против тирании действительности и подчиняется законам, которые не суть законы исторических течений. Эта мысль находится в противоречии почти со всем, что Ницше писал о морали и добродетели.
Кроме толчка, данного Сократом, Ницше знает еще и другой, совсем другой источник упадка, и другую его картину, соответственно которой он говорит и другие дерзости цивилизации и прогрессу. Чтобы оценить эту сторону дела, вернемся к сказанному в № 8 «Русского Богатства» о предшественнике Ницше, Максе Штирнере. Он, между прочим, тоже заинтересовался Сократом, но только судом над ним и его смертью, которую, мимоходом сказать, Ницше считает добровольною. Штирнер относится к делу гораздо грубее, проще. Он говорит: «Сократа хвалят за добросовестность, с которою он отклонил совет бежать. Но он был просто глуп, признавая за афинянами право суда над ним. С ним поступали по праву. Зачем стоял он на одной почве с афинянами? Зачем не разорвал с ними? Если бы он знал, мог знать, что он такое, он не признавал бы за такими судьями никаких прав. Его отказ был слабостью, заблуждением, будто он имеет что-то общее с афинянами или что он член, простой член этого народа. Он мог быть только собственным судьей. Он и был им, когда сказал, что он достоин Протанея, и на этом ему следовало стоять, и так как он не приговаривал себя к смерти (Ницше думает, что именно сам себя приговорил), то должен был презреть суд афинян, но он подчинился и признал народ своим судьей, признал себя малым перед величием народа. Он мог не устоять перед силой, но его признание права было изменой по отношению к себе: это была добродетель».
Мы уже знакомы с необузданным эгоизмом Штирнера и приводили его образчики. Напомним их, потому что в них заключается в зародыше весь настоящий «имморализм» Ницше. Штирнер знает, что есть силы сильнее его и вообще всякого я, но, признавая эту силу как факт, он не хочет признавать ее как право, и в то же время утверждает, что право есть сила. Сократ оказал слабость, признав за афинянами право над ним, и они поступили с ним по праву, потому что оказались сильнее его. Я имеет право на все, но чтобы осуществить это право, я должен пустить в ход силу – силу ума, силу физическую, силу хитрости, как придется. Главное же дело в том, чтобы освободиться от почтения к разным фантомам, от преданности «шпукам», убедиться, что их в действительности совсем даже нет, что это только создания извращенного человеческого духа. «Я решаю вопрос о праве; вне меня нет права. Что по моему право, то и есть право. Возможно, что другие не признают за мной этого права; это их дело, а не мое: пусть действуют. И если бы весь свет не признавал за мной того права, которое признаю я, то я не посмотрю и на весь свет. Так поступает всякий, кто умеет ценить себя, поскольку он эгоист, ибо сила первенствует над правом – и притом с полным правом». И в другом месте: «Тебя свяжут! – Мою волю никто не может связать. – Но ведь наступил бы полный хаос, если бы каждый мог делать все, что хочет! – Кто же говорит, что каждый может делать все, что хочет? Кто хочет сломить твою волю, тот тебе враг, так с ним и поступай».
Рассуждение вполне логичное, слишком логичное, слишком голологичное, и Ницше под ним целиком не подписался бы. Читатель сам увидит почему. А теперь обратим внимание на ту аристократическую струнку, которая слегка звучит в рассуждении Штирнера о суде над Сократом. Всякое я полноправно и все они равноценны. Но вот я Сократа как будто и подороже стоит, чем другие афинские местоимения первого лица.
Сократ оплошал и за это по праву поплатился, но он все-таки человек особенный, «выдающийся», «необыкновенный» и в качестве такого именно не должен был признавать право суда над собой. Ведь мало ли кого афиняне судили, но не всем же им претендовать было на место в Пританее. Очевидно, я «выдающихся», «необыкновенных» людей имеет какое-то преимущество в глазах Штирнера, какое – неизвестно, ибо, как мы уже говорили, книгу Штирнера надо считать недоконченною. Ей недостает положительной части, которая у Ницше есть. Есть у него и дальнейшее, до последней степени резкое развитие той легкой аристократической струнки, которая у Штирнера звуцит едва ли только не в одном приведенном месте о Сократе.
«Ценность эгоизма, – говорит Ницше (Gotzendammerung, 98), – зависит от физиологической ценности его носителя: она может быть очень велика, а может быть и совсем ничтожна и Презрительна. Каждый отдельный человек должен быть рассматриваем с той стороны – представляет ли он собою восходящую или нисходящую линию жизни. Решение этого вопроса и даст меру ценности его эгоизма. Если он представляет подъем линии, то его цена высока и ради всей совокупности жизни, которая делает с ним шаг вперед, он должен быть обставлен наилучшими условиями. „Индивидуум“, как его до сих пор понимали толпа и философы, есть заблуждение; он не атом, не „звено цепи“, он – целая линия человека вплоть до него самого. Если он представляет собою нисходящее развитие, упадок, хроническое вырождение, заболевание (болезни, вообще говоря, суть следствия упадка, а не причины его), то цена ему малая, и элементарная справедливость требует, чтобы он возможно меньше отнимал на свою долю у лучших; он только их паразит».
Во имя личности Ницше требует отчета у всех реальных и идеальных форм общественности и горячо протестует против обращения ее в «орудие», функцию, орган какого бы то ни было целого; личность во всей полноте ее сил и потребностей противопоставляет он всем стихийным силам природы и истории вплоть до мирового процесса в целом и до трагического конца самой личности, если бы таковой оказался неизбежным. Но затем оказывается, что личности не равноценны и что есть какое-то целое, – «совокупность жизни», das Gesammt-Leben, – в интересах которого должна производиться расценка личностей: кто лучше может этому целому послужить, тому и цена большая, а кто послабее, тому и цена поменьше и житейская доля похуже. Этим в корене подрывается исходная точка Ницше. Что люди, конкретные личности, не равны между собою не только по своему общественному положению, но и по своим силам и способностям, – это мы все очень хорошо знаем. Но вопрос не в этом слишком несомненном стихийном факте и даже не в том, что «ина слава солнцу, ина слава луне и звезда от звезды разнствуют во славе». Разумеется, – «ина», разумеется, – «разнствуют». Вопрос в принципе, на основании которого мы устанавливаем или должны устанавливать эти различия и производим или должны производить эту расценку. В практической жизни это дело чрезвычайно сложное и запутанное. Оставляя в стороне личные привязанности и отвращения и национальные, сословные и профессиональные предрассудки, широкою волною вращающиеся обыкновенно в нашу расценку людей, мы все же получим нечто очень сложное. Человек большого ума и исключительных дарований, раздвинувший наши теоретические горизонты, «насытивший кристалл очей» наших дивными художественными произведениями, или словом или музыкальными звуками поднимающий в нас волну лучших чувств, обогативший человечество благодетельным открытием или изобретением, – может оказаться слабым, ничтожным, дрянным характером. Увы! это слишком часто случается. Мало того, большой ум и редкий талант, которых мы не можем не ценить высоко, как силу, бывают направлены на дела, которые мы, по тем или другим соображениям, опять же не можем не ценить крайне низко, даже отрицательно. Наоборот, маленький во всех других отношениях человек может таить в себе, а при случае и обнаруживать такую нравственную мощь и красоту, перед которой мы поневоле должны почтительно снять шапку. Но ее столь же почтительно можно снять перед обыкновенным рядовым работником на деле, которое мы считаем важным, нужным, святым. Таким образом, не только звезда от звезды разнствуют во славе, но и в самих-то звездах лучи славы и бесславия переплетаются в очень разнообразных комбинациях. Если мы введем сюда физиологический элемент, указываемый Ницше, то он не только не устранит этой сложности, но еще введет новые осложнения. Посетитель цирка или балагана, любующийся атлетом, рабовладелец, выбирающий на рынке здорового, сильного, выносливого раба, ввиду своих частных целей, конечно, ценят этого атлета и этого раба выше больных и слабых, и они правы с своей точки зрения. На что бы им годился галлюцинант Сократ, эпилептик Магомет, хилый Вольтер, слабогрудый Шиллер, больной Ницше? Но люди, получившие от этих больных и слабых известное возбуждение, хотя бы только в видах пересмотра своего умственного и нравственного багажа, конечно, без дальних размышлений дадут им более высокую оценку, чем тысячам здоровых и сильных.



