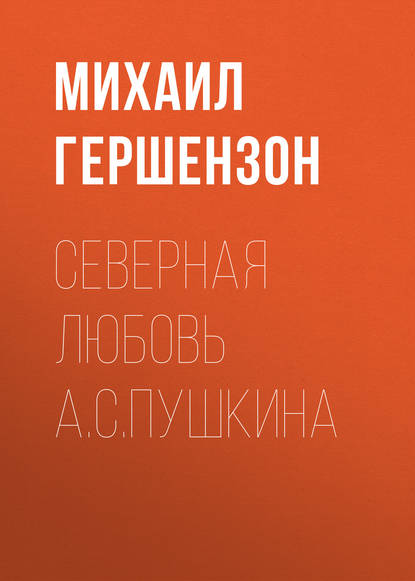 Полная версия
Полная версияСеверная любовь А.С.Пушкина
И вот, биографы Пушкина, сопоставляя эти строки с его словами в письме к Дельвигу, что о фонтане слез он впервые услыхал от какой-то К**, решили, что это и была Екатерина Николаевна Раевская, и что следовательно, в последнюю и был влюблен тогда Пушкин.
Между тем о Бахчисарайском фонтане Пушкин впервые услыхал несомненно в Петербурге. Об этом с полной ясностью свидетельствует черновой набросок начала «Бахчисарайского фонтана».
Давно, когда мне в первый разПоведали сие преданье,Я в шуме радостном унылИ на минуту позабылРоскошных оргий ликованье.Но быстрой, быстрой чередойТогда сменялись впечатленья, и т. д.Здесь так ясно обрисована петербургская жизнь Пушкина, что сомнений быть не может. В письме к Дельвигу Пушкин говорит, что К** поэтически описывала ему фонтан, называя его «la fontaine des larmes»[5], а в самой поэме он говорит об этом:
Младые девы в той странеПреданье старины узнали,И мрачный памятник онеФонтаном слез именовали.Эти выдержки, думается, решают вопрос. Да и как можно было относить этот эпизод к Екатерине Николаевне, которую мы хорошо знаем за натуру холодную, положительную, строгую, когда сам Пушкин ту женщину, которая рассказывала ему о Бахчисарайском фонтане, характеризует выражениями: «поэтическое воображение К**», «элегическая моя красавица», и применяет к ней стих «bouche aimable et naive»?[6] Какою представлялась ему Екатерина Николаевна, можно судить по тому, что Пушкин писал князю Вяземскому по поводу «Бориса Годунова»: «Моя Марина славная баба: настоящая Катерина Орлова».
Итак, кто же был предметом этой северной любви Пушкина на юге? Если до сих пор мы стояли на почве несомненных фактов и категорических показаний самого Пушкина, то теперь мы вступаем в область предположений, очень соблазнительных, более или и менее достоверных, но требующих во всяком случае еще всесторонней проверки.
Мы решаемся думать, что этой женщиной была княгиня Мария Аркадьевна Голицына, урожденная Суворова-Рымникская, внучка генералиссимуса. В переписке Пушкина нет никакого намека на его отношения к ней или к ее семье, биографы Пушкина ничего не говорят о ней. Она родилась 26 февраля 1802 г., значит, в момент ссылки Пушкина ей было 18 лет. Она вышла замуж 9 мая 1820 г., т. е. дня через три после высылки Пушкина, за князя Михаила Михайловича Голицына, и умерла она в 1870 году[7]. Среди стихотворений, написанных Пушкиным на юге, есть три, несомненно относящиеся к ней. Приводим здесь же эти три стихотворения, так как нам придется в дальнейшем не раз ссылаться на них.
IУмолкну скоро я. Но если в день печалиЗадумчивой игрой мне струны отвечали;Но если юноши, внимая молча мне,Дивились долгому любви моей мученью;Но если ты сама, предавшись умиленью,Печальные стихи твердила в тишинеИ сердца моего язык любила страстный;Но если я любим, – позволь, о, милый друг,Позволь одушевить прощальный лиры звукЗаветным именем любовницы прекрасной.Когда меня навек обымет смертный сон,Над урною моей промолви с умиленьем:Он мною был любим, он мне был одолженИ песен, и любви последним вдохновеньем.23 авг. 1821 г.IIМой друг, забыты мной следы минувших летИ младости моей мятежное теченье.Не спрашивай меня о том, чего уж нет,Что было мне дано в печаль и в наслажденье,Что я любил, что изменило мне.Пускай я радости вкушаю не вполне;Но ты, невинная, ты рождена для счастья.Беспечно верь ему, летучий миг лови:Душа твоя жива для дружбы, для любви,Для поцелуев сладострастья;Душа твоя чиста: унынье чуждо ей;Светла, как ясный день, младенческая совесть.К чему тебе внимать безумства и страстейНезанимательную повесть?Она твой тихий ум невольно возмутит;Ты слезы будешь лить, ты сердцем содрогнешься;Доверчивой души беспечность улетит,И ты моей любви, быть может, ужаснешься.Быть может, навсегда… Нет, милая моя,Лишиться я боюсь последних наслаждений.Не требуй от меня опасных откровений:Сегодня я люблю, сегодня счастлив я!24-25 авг. 1821 г., в ночь.IIIДавно об ней воспоминаньеНошу в сердечной глубине,Ее минутное вниманьеОтрадой долго было мне.Твердил я стих обвороженный,Мой стих, унынья звук живой,Так мило ею повторенный,Замеченный ее душой.Вновь лире слез и тайной мукиОна с участием вняла –И ныне ей передалаСвои пленительные звуки…Довольно! в гордости моейЯ мыслить буду с умиленьем:Я славой был обязан ей –А может быть и вдохновеньем.Одесса, 1823 г.Из этих трех стихотворений только последнее отмечено самим Пушкиным, как посвященное княгине М. А. Голицыной; первые два отнесены к ней уже позднейшими издателями сочинений Пушкина[8] по соображениям, убедительность которых, кажется, не может быть оспариваема. В самом деле, конец I и III тождественны; далее, в I есть ясный намек на то, что данная женщина была очарована какими-то печальными стихами Пушкина, – и этот самый случай вспоминает Пушкин и в III, несомненно посвященном Голицыной. Что же касается II, т. е. среднего стихотворения, то оно хронологически так тесно связано с первым, что их невозможно отнести к разным лицам: первое написано 23-го авт., второе 24-25-го. Притом их нераздельность удостоверяется еще следующим обстоятельством: в черновом наброске первая пьеса начиналась так: «Нет, поздно, милый друг, узнал я наслажденье» – и о наслажденьи же говорит и вторая пьеса: «Лишиться я боюсь последних наслаждений» (слово «наслажденье» и там, и здесь употреблено не в чувственном смысле, а в значении радости, счастья). Итак, есть все основания относить эти три стихотворения к княгине М. А. Голицыной, как это и делают П. А. Ефремов и П. О. Морозов.
По этим трем пьесам мы можем до некоторой степени уяснить себе и личность женщины, которую любил Пушкин, и характер самой его любви. Это была, по-видимому, очень молодая женщина, еще полуребенок, с ясным духом, с тихим умом, нежная и полная участия, неопытная в страстях и зле. Пушкин давно ее любил («дивились долгому любви моей мученью»). Любила ли она его? Он этого долго не знал. Была только одна минута, когда ему показалось, что он любим: он узнал, от нее самой или чрез другое лицо, что ей понравились какие-то (определенные) его стихи и что она твердила их про себя (или пела). В августе 1821 года случилось что-то, что почти уверило его в ее взаимности: возможно, что это был именно тот случай с его стихами. Как бы то ни было, 23-го августа он пишет первую элегию: он слишком поздно узнал о ее любви, он мертв духом, жизнь кончена для него. Вторую пьесу он пишет через два дня: она просила его рассказать ей о его бурной молодости, о том, сколько раз и в кого он был влюблен до нее; нет, он не расскажет ей этого; его рассказ омрачил бы ее светлый дух, ее испугала бы его любовь, в которой его последнее наслажденье. Но о ее любви к нему он все время, и в I, и во II, говорит неуверенно: в I – «если я любим», а во II – ни разу о ее любви, все только о своей: «моей любви, быть может, ужаснешься», «сегодня я люблю…»
Эти два стихотворения составляют, очевидно, один этюд. Они написаны в Кишиневе, – как уже сказано, 23-25-го августа 1821 г.; и они свидетельствуют, что предмет его любви был тут же, – в этом не может быть никакого сомнения. Пушкин слишком правдив и слишком конкретен в своем творчестве, чтобы выдумывать сюжеты для своих стихотворений. Но у нас нет никаких сведений о том, была ли M. А, Голицына в Кишиневе в августе 1821 г. Мы знаем только, что ее семья имела близкие отношения к югу, к Одессе и Крыму. Ее мать – во втором браке тоже Голицына – по крайней мере в 30-х годах жила в Одессе, и там же умерли и она, и ее муж[9]. Сестра Марии Аркадьевны, по мужу Башмакова, уже в 1823 г. жила с мужем в Одессе[10] (и часто встречалась с Пушкиным у Воронцовых); один из братьев некоторое время был адъютантом Воронцова[11], с которым они были в довольно близком родстве. Пьеса «Давно об ней воспоминанье» дает основание думать, что в данный момент (1823 г.) М. А. была в Одессе[12]. Нам остается сказать два слова о третьем из стихотворений, посвященных княгине М. А. Голицыной. Оно написано почти через два года после первых пьес. Чувство Пушкина уже остыло. Он вспоминает тот давний, памятный ему случай, когда он узнал, что его стихи ее очаровали; теперь случилось нечто другое – об этом втором случае Пушкин говорит неясно:
Вновь лире слез и тайной мукиОна с участием вняла –И ныне ей передалаСвои пленительные звуки.[13]
Это последнее стихотворение он лично передал или через Башмакову переслал Голицыной. По крайней мере, в 1825 году, готовя издание своих стихотворений, он поручает брату взять эту пьесу у Голицыной.
IV
Теперь, зная настроения Пушкина в первый период ссылки, зная и его омертвелость, и его северную любовь, мы глубже и вернее поймем его «Кавказского пленника», написанного непосредственно после поездки на Кавказ и в Крым (начат еще в Гурзуфе).
Если бы нужны были еще доказательства поразительной, щепетильной, почти педантической правдивости Пушкина, лучшим из них могла бы служить эта поэма. Она верна действительности до мелочей. Пушкин сам, в письме к Гнедичу, указал на одну такую черту: как ни соблазнительно было избрать местом действия горы и ущелья Кавказа, – он «поставил своего героя в однообразных равнинах, где сам прожил два месяца». И подобных черт много. Например, действие поэмы происходит летом, в период гроз, косьбы (может быть, второй) – когда и Пушкин был на Кавказе. Он описывает Байрам[14] – и от Геракова мы знаем («Пут. зап.», 153), что в тот год Байрам начался 5-го или 6-го сентября, и следовательно, Пушкин мог его видеть у крымских татар.
Пушкин неоднократно признавался, что в лице пленника он изобразил самого себя. Соглашаясь с мнением Горчакова, что характер пленника неудачен, он замечает: «Это доказывает, что я не гожусь в герои романтического стихотворения», и, посвящая поэму младшему Раевскому, он говорит:
Ты здесь найдешь…Мечты знакомые, знакомые страданьяИ тайный глас души моей.Мы видели, каково было душевное состояние Пушкина на Кавказе и в Крыму – и каким оно представлялось ему самому. Три чувства преобладали в нем: 1) он чувствовал себя на свободе, и был интимно уверен, что сам бежал от «стеснительных условий и оков»; 2) он чувствовал себя нравственно мертвым, недоступным никакому очарованью, никакой радости; 3) наконец, он лелеял какую-то давнюю, неразделенную любовь. Этими тремя элементами всецело исчерпывается и психологический сюжет «Кавказского пленника». Больше в нем нет ничего. Замечательно, что в своей бессознательной правдивости Пушкин и пленника сделал поэтом, каким был сам: «Охолодев к мечтам и лире», говорит он о пленнике.
В стихотворениях, написанных Пушкиным за это первое время его ссылки, можно подобрать ряд признаний, почти буквально совпадающих с характеристикой, которую он дает своему пленнику. И пленник, как сам Пушкин, «бежал» с севера – и по той же причине:
Отступник света, друг природы,Покинул он родной пределИ в край далекий полетелС веселым призраком свободы.И то, что дальше говорится о пленнике:
Свобода! он одной тебяЕще искал в подлунном мире.это самое Пушкин, в 1821 г., писал Дельвигу о себе:
К неверной славе я хладею –Одна свобода мой кумир.Общ ему с пленником и «души печальный хлад». Как в нем самом, это – самая резкая черта в душевном состоянии пленника: она проходит красной нитью через всю поэму. В ответ на любовь черкешенки пленник говорит:
Но поздно: умер я для счастья,Надежды призрак улетел;Твой друг отвык от сладострастья,Для нежных чувств окаменел…Когда в августе 1821 г. Пушкину показалось, что княгиня М. А. Голицына готова отвечать на его любовь, он писал ей (в первом из посвященных ей стихотворений, – эти стихи были потом отброшены):
Нет, поздно, милый друг, узнал я наслажденье:Ничто души моей уже не воскресит;Ей чуждо страсти упоенье,И счастье тихое меня не веселит.И он объясняет эту душевную мертвенность пленника так же, как собственную разочарованность: действием страстей, рано опустошивших душу:
Без упоенья, без желаний,Я вяну жертвою страстей,Или:
Страстями сердце погуби…Или:
Где бурной жизнью погубилНадежду, радость и желанье… и т. д.Но как и он, пленник унес с собой из родного края долгую, мучительную страсть – и также без взаимности, как Пушкин. То, что Пушкин говорит о себе в элегии «Погасло дневное светило», – то самое он почти буквально говорит и о пленнике:
…в нем теснилисьВоспоминанья прошлых дней…Лежала в сердце, как свинец,Тоска любви без упованья.Даже романтическую фабулу своей поэмы (которую надо отличать от психологического сюжета) Пушкин не выдумал, а взял, по-видимому, из собственного опыта. В объятиях женщины думал о другой – такова эта фабула:
Как тяжко мертвыми устамиЖивым лобзаньям отвечатьИ очи, полные слезами,Улыбкой хладною встречать!Измучась ревностью напрасной,Уснув бесчувственной душой,В объятиях подруги страстнойКак тяжко мыслить о другой!..Вся эта фабула in nuce[15] заключена в стих‹отворении› «Дорида», которое было написано Пушкиным еще в Петербурге, за несколько месяцев до ссылки: в объятиях Дориды ему «другие милые… виделись черты» и «имя чуждое уста» его «шептали».
Надо обратить внимание на те два стиха о пленнике:
Измучась ревностью напрасной,Уснув бесчувственной душой…В них вся история «северной» любви Пленника – и Пушкина.
V
Этой северной любовью вдохновлялась поэзия Пушкина на юге целых два года, ее внушен был не только «Кавказский пленник», но и «Бахчисарайский фонтан». Чудным светом озаряется для нас его творчество – мы нисходим до таинственных источников вдохновения.
Но их даже не надо искать, их показывает нам сам Пушкин. Он увез на юг только смутный облик любимой женщины, не настоящую страсть, а глубокое томление, сладкое очарованье недостижимой, нежной, кроткой красоты. И, может быть, именно этой безбурной полнотой волшебного очарованья, этой туманностью чарующего образа и питалось больше всего вдохновение поэта. Реальная страсть узка, нетерпима, в ней нет такой дали. В черкешенке и в Марии Потоцкой Пушкин возвел в «перл создания» женщину своей северной любви.
Он сам говорит это. Стоя перед фонтаном в Бахчисарае, он равнодушно смотрел кругом:
…не темВ то время сердце полно было.Ему чудилась тень девы:
Чью тень, о други, видел я?Скажите мне: чей образ нежныйТогда преследовал меня,Неотразимый, неизбежный?То были не Мария и Зарема, – то был образ другой, живой женщины:
Я помню столь же милый взглядИ красоту еще земную,Все думы сердца к ней летят,Об ней в изгнании тоскую…Безумец! полно! перестань,Не растравляй тоски напрасной,Мятежным снам любви несчастнойЗаплачена тобою дань –Опомнись! долго ль, узник томный,Тебе оковы лобызать,И в свете лирою нескромнойСвое безумство разглашать?Это – та самая любовь, о которой он говорил в первом стихотворении кн. Голицыной:
Но если юноши, внимая молча мне,Дивились долгому любви моей мученью…Пушкин сам рассказывает (1823 г.), что, прочитав Туманскому отрывки из своего «Бахчисарайского фонтана», он сказал ему, что не желал бы напечатать эту поэму, «потому что многие места относятся к одной женщине, в которую я был очень долго и очень глупо влюблен, и что роль Петрарки мне не по нутру». То самое, что он говорит в заключительных стихах поэмы, он повторил и в стихотворении «Фонтану Бахчисарайского дворца»:
Или Мария и ЗаремаОдни счастливые мечты?Иль только сон воображеньяВ пустынной мгле нарисовалСвои минутные виденья,Души неясный идеал?В черновом было: «Любви безумной идеал».
И уже позднее, в «Онегине», вспоминая обе свои поэмы – и «Пленника», и «Фонтан», – он писал:
Замечу кстати: все поэты –Любви мечтательной друзья.Бывало, милые предметыМне снились, и душа мояИх образ тайный сохранила;Их после муза оживила:Так я, беспечен, воспевалИ деву гор, мой идеал,И пленниц берегов Салгира…Не потому ли Пушкин в том стихотворении княгине Голицыной, 1821 г., писал:
…Но если в день печалиЗадумчивой игрой мне струны отвечали,– и упорно говорил, что может быть, ей был обязан вдохновением?
На юге Пушкин, как известно, впервые узнал Байрона, и отсюда начинается «байронический» период его творчества. Вопрос о байронизме у Пушкина требует коренного пересмотра. Нельзя – как это большей частью делалось до сих пор – говорить о влиянии, не изучив предварительно ту психическую почву, на которую легло это влияние; чтобы выделить байронические элементы в поэзии Пушкина, надо знать, чем был Пушкин в момент своего ознакомления с Байроном. Этот вопрос требует специального исследования, но основные линии уже теперь ясны. Мы видели, как много «байронических» элементов было в душе Пушкина уже в 1819 г. и начале 1820 г., т. е. прежде, чем Раевские познакомили его с поэзией Байрона; и с другой стороны, легко заметить, что одна из основных черт байроновского настроения осталась чужда ему и после этого знакомства: бурный протест, мятеж против социального насилия. Высылка Пушкина из Петербурга была соединена с ужасными оскорблениями, доводившими его до мыслей о самоубийстве или убийстве, да и помимо этого, сама ссылка была насильственным актом. Пять лет спустя, Пушкин заговорит о мести и назовет ее: «бурная мечта ожесточенного страданья». Но на первых порах на Кавказе и в Крыму у него не только не вырывается ни одной ноты возмущения, протеста, но, как мы видели, он игнорирует даже сам факт ссылки, и чтение Байрона в этом отношении нимало не влияет на него; по его стихам никто не догадался бы, что он – жертва грубого произвола. Таким образом, мы думаем, что влияние Байрона не внесло в психику Пушкина ни одного нового элемента; оно только помогло ему яснее осознать его собственное душевное состояние, в каком он был тотчас по приезде на юг.
В заключение привожу упомянутые выше письма H.H. Раевского-отца к Ек. Н. Раевской.
113-го июня. Горячие воды. – Где ты, милая дочь моя Катенька? каково твое здоровье и сестры твоей Аленушки? – вот единственная мысль моя, которая и во сне меня не оставляет. Я никаких планов не делаю, пока не получу от вас известия; последнее имел в Киеве от 6-го мая. Выехал я 19-го[16], 21-го ночевал в Смелее, отпустил сестер по утру в Каменку, сам же поехал в Сунки для некоторых испытаний на винном заводе, и приехал к матушке вечером.
Из сего начала ты видишь, мой друг, что я пишу род журнала, род, потому что для оного недовольно подробно, а для письма слишком обстоятельно и длинно.
О Каменке тебе ни слова, все по-прежнему – хуже быть не может, разве новые мерзости.
Я выехал из Болтышки[17] после ночлега, позавтракал у Аграфены Ивановны[18] и пустился в путь. В Елисаветграде остановился у Фундуклея, где нашел доктора Бетриха. Первый жаловался, что люди мало пьют водки, второй – что мало больных!
Из Елисаветграда ехал я некоторое время Николаевской дорогой, потом повернул влево на Кременчугскую, не доезжая его, повернул вправо на Екатеринославль в виду Днепра нагорным берегом; места прекрасные, река излучистая, во всей своей красоте. В Екатеринославль приехал в десятом часу ночи, к губернатору Карагеоргию, который имел удар от паралича, но болезни своей не знает. Екатеринославль на прекрасном месте расположен вдоль Днепра. Город не обширный, улицы и дома чистые, и при каждом сад, что составляет картину весьма приятную. С горы, которую предположено застроить, в хорошую погоду виден Павлоград в 70-ти верстах расстояния. На сей высоте заложена была церковь императрицей Екатериной, которой величиной мало в Европе равняться могут, – она оставлена; тут валится дворец, в котором жил князь Потемкин, при нем прекраснейший, но запущенный сад, обширный, с прекрасными деревьями, коим окружающие степи цену прибавляют! Великий князь Николай Павлович, смотря на дворец, повторил слышанные слова: этот человек все начинал, ничего не кончал. – Потемкин заселил обширные степи, распространил границу до Днестра, сотворил Екатеринославль, Херсон, Николаев, флот Черного моря, уничтожил опасное гнездо неприятельское внутри России приобретением Крыма и Тавриды, а не докончил только круга жизни человеческой, не достигнув границы, ей предназначенной, умер во всей силе ума и тела!
В Екатеринославле переночевал, позавтракал и поехал по Мариупольской дороге. В 70-ти верстах переправился через Днепр при деревне Нейенбург, – немецкая колония в цветущем положении, уже более 30-ти лет тут поселенная. Тут Днепр только что перешел свои пороги, посреди его – каменные острова с лесом, весьма возвышенные, берега также местами лесные; словом, виды необыкновенно живописные, я мало видал в моем путешествии, кои бы мог сравнить с оными.
За рекой мы углубились в степи, ровные, одинокие, без всякой перемены и предмета, на котором бы мог взор путешествующего остановиться; земли способные к плодородию, но безводные и посему мало заселенные. Они отличаются от тех, что мы с тобой видали, множеством травы ковылем называемой, которую и скот пасущийся в пищу не употребляет, как будто бы почитает единственное их украшение. Надобно признаться, что при восходе или захождении солнца, когда смотришь на траву против оного, то представляется тебе чистого серебра волнующееся море.
Близ Мариуполя открыли глаза наши Азовское море. Мариуполь, как и Таганрог, не имеет пристани, но суда пристают по глубине ближе к берегу. 40 лет, как населен он одними греками, торгуют много хлебом, скотом, в 120-ти верстах от Таганрога, окружены землями плодородными, а хлеб, то есть пшеница, и в теперешнее дешевое время продается до 16-ти рублей. На первой почте за Мариуполем встретили мы жену Гаевского, которая дожидалась меня трое суток и отправилась к мужу; ей не дали лошадей, для меня приготовленных. Она за то приготовила нам завтрак, мы поели, я написал с ней вам письма, и поехали.
В Таганрог приехал я утром. Город на хорошем месте, строеньем бедный, много домов покрытых соломой, но торговлей богат и обыкновенно вдвое приносит правительству против Одессы. Способов ей не дают, купцы разных наций не имеют общественного духа, от сего нет никакого общественного заведения, пристани нет, а по мелководью суда до берега далеко не доходят, а при мне сгружали и нагружали оные на подмощенных телегах, которые лошади в воде по горло подвозили к судам.
Обедал я у градоначальника Папкова, ночевал и поутру рано отправился в Ростов, что прежде было предместьем крепости Святого Димитрия.
Крепость сия есть то место, где 37 лет тому назад жил я почти год с матушкой по той причине, что Лев Денисович, командовавший полком, ходил на Кубань под командой Суворова, а чтоб рассмешить тебя, мой друг, напомню песенку, мной сочиненную девице Пеленкиной и тебе известную, в которой я назвал ее Лизетой, потому что к ее имени, т. е. Алены, я рифмы приискать не мог. В первый раз ехав на Кавказ при жизни ее мужа тому 25 лет, я у них обедал; нынче, узнав, поехал к ней, застал у них гостей; одна дочь замужем, другая же, 17 лет, в девицах, и так хороша, как мало видал я хороших. Я посидел, посмеялись насчет ребяческих лет наших и… расстались без слез, ни сожаленья.
За крепостью есть другой форштат, или город армянский, Нахичевань называемый, пространный, многолюдный и торговлей весьма богатый. Образ жизни, строенье, лица, одеянье, все оригинальное. Мы его проехали и прибыли на ночлег в станицу Аксай на устье реки Аксай, вверх по которой в 35-ти верстах перенесена столица донских казаков и названа Новым Черкасском. В Аксаях должен был я переправляться через Дон; послал тотчас письмо с казаком к атаману Денисову, что буду назавтра к нему обедать, и куда всей гурьбой на утро отправился. Новый Черкасск, заложенный Платовым, город весьма обширный, регулярный, но еще мало населенный, на высоком степном месте, на берегу реки Аксай, которая теперь в половодье разливами соединяется с Доном, но различить их весьма можно по разности цвета воды. Пообедав, выпросил шлюпку и поехали назад водой. Вообрази ты себе берег нагорный, с разнообразными долинами, холмами, рощами, виноградными садами, и застроенный беспрерывными дачами на расстоянии сорока верст, в степном уголку земного шара, – ты можешь легко представить чувства смотрящего на сии картины человека, коего сердце к приятным чувствам открыто быть может. Мои все были в восхищении, и я был бы также, когда б вы были со мной и здоровы! – На пути, спросив на даче граф. Кат. Дмитр. Орловой, вдовы атамана, тещи Палена, и узнав, что с час как приехал сосед наш Орлов Алексей Петрович, который теперь здесь на водах, мы вышли на берег, я с ним повидался, потом сел в шлюпку и приехали уже ночью довольно поздно в Аксай.
На другой день рано, отправив кареты на большом судне на другой берег, до коего было 18 верст, сели опять в шлюпку и поехали в Старый Черкасск. Сей разжалованный город в станицу еще более обыкновенного залит водою. В нем осталось домов до 700, в том числе несколько старых фамилий чиновников, как то Ефремовых и пр., другие же перевезены в Черкасск. Но церквей не перевезли и их богатства, но не могли увезть памяти, что это первое было гнездо донских казаков. Словом, Старый Черкасск останется вечно монументом как для русских, так и для иностранных путешественников. – Обойдя все, что там есть достойного, отправились и мы на левый берег Дона и приплыли в Азию в одно время с нашими каретами.



