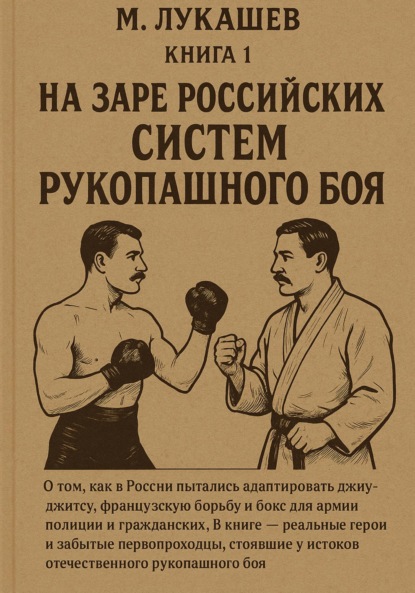
Полная версия:
На заре российских систем рукопашного боя
Одним из первых и наиболее известным из них стал видный деятель пражского «Сокола» Ф.И. Ольшанник. Когда члены Московского клуба велосипедистов соблазнились боксерской практикой своих соседей из Атлетического кружка под управлением барона Кистера, они тоже надели перчатки, а одним из преподавателей стал у них Ольшанник. Не ограничиваясь всего лишь обучением, летом 1896 г. он даже сам вышел на ринг в показательном матче на московском «Циклодроме» (как именовали тогда велодром). Репортер журнала «Циклист», писавший под велосипедным псевдонимом «Руль», вот так, не без ехидства, прокомментировал это, еще не привычное в России, зрелище: «Перед началом гонки господа Ольшанник и Смоленский демонстрируют бокс. Хорошо боксируют!.. Я думаю, самому Расплюеву не пришлось такого бокса испытывать!.. Погрозив друг другу кулаками и смазав друг друга по нескольку раз подошвами, уступили место велосипедистам».
В моем архиве сохранились уникальные и сегодня уже слегка комичные фотографии, где этот ветеран демонстрирует для сокольского журнала начала XX века технику французского бокса. Его перчатки с длиннейшими, чуть ли не по локоть, крагами столь же забавно-архаичны, как и удары с фехтовальным выпадом и повернутыми ногтями вверх кулаками.


Ф. И. Ольшанник демонстрирует для сокольского журнала технику французского бокса
Тот же Ольшанник, придя в Русское гимнастическое общество, преобразовал его по чешскому образцу в Первое Русское Гимнастическое Общество «Сокол» в Москве, где занятия проводились по всем разделам, в том числе и по боевому.
В начале века сокольство прочно утвердилось у нас как основной вид гимнастики и не только оставило заметный след в терминологии, но и вообще стало основой современной спортивной гимнастики. В России выпускался специальный журнал «Сокол». А в 1912 году штабс-капитан Марков выпустил в Петербурге «Руководство для изучения сокольской гимнастики и постановки ее в войсках».
В первые послереволюционные годы сокольские общества еще продолжали существовать в ряде городов, а Сокольская гимнастика была обязательным предметом даже в Главной военной школе физического образования трудящихся. Но очень скоро эта «подозрительная иностранка» оказалась под яростным огнем критики как буржуазная система, идеологически вредная и проповедующая патриотические убеждения. А патриотизм тогда был таким же точно подозрительным и гонимым, как и у нас в течение всех десяти последних лет. Только тогда ему противопоставляли не «западные, общечеловеческие ценности», а железный пролетарский интернационализм и братский союз трудящихся всех стран и народов!
Бывший член Олимпийского Комитета Российской империи, крупнейший деятель физической культуры дореволюционной, а затем и советской России Г. А. Дюперрон в своем популярнейшем и очень ценном труде сказал об этом очень смело для тех лет и осуждающе резко: «За последние годы в СССР Сокольская гимнастика не пользуется любовью тех, кто ею не занимается. Если откинуть соображения шкурного свойства, чаще всего на Сокольскую гимнастику нападают не как на гимнастическую систему, а как на явление слишком тесно связанное с сокольством, то есть с идеологическим направлением. В наших целях нужно раз навсегда откинуть эти соображения, и нужно решиться смотреть на сокольскую гимнастику только как на определенную систему физического развития».
Нет нужды объяснять, что это так и осталось всего лишь гласом вопиющего в пустыне. Дни «буржуазного и идеологически чуждого» сокольства были уже сочтены. Ведь на подходе уже маячили родные советские и «свои в доску» пролетарские поделки. Впрочем, при этом, как ни странно, все еще продолжали пользоваться у нас признанием и успехом целых две известных во всем мире французских и заведомо «буржуазных» системы – Демени и Эбера.
Что касается вообще французских систем, которые начали формироваться еще в революционном 1795 году в рядах «юношеских батальонов надежды», то они являлись наиболее продвинутыми в интересующем нас смысле. Между прочим, ряд специалистов считает, что де Паули преподавал не столько шведскую, сколько французскую военную гимнастику. Именно Франция в 1852 году организовала первое в мире специализированное военно-спортивное учебное заведение в Жуанвиль ле Понт. В Жуанвильской фехтовально-гимнастической школе преподавали не только военную гимнастику и фехтование, которое в то время еще было вполне реальной воинской дисциплиной. Школа также являлась одним из основных центров французского бокса. И именно выпускник этой школы Эрнест Лустало стал основоположником как французского, так и английского бокса в Петербурге в конце XIX века.
Однако до этого французские новации долгое время игнорировались у нас по чисто политическим причинам: наша дремучая монархия с истеричной нервозностью прямо-таки на дух не принимала любые «республиканские» достижения. Только в середине XIX века в Москве открылся частный гимнастический зал француза В.Я. Пуаре, пользовавшийся определенной популярностью. Пуаре перевел и в семидесятых-восьмидесятых годах дважды опубликовал капитальный труд «профессора гимнастики в Париже Наполеона Лэнэ». Разумеется, в этой, более чем пятисотстраничной книге совсем нетрудно отыскать вполне понятные недочеты, с современной точки зрения. Но, думаю, что тому, кто освоил все приведенные там упражнения, было бы не так уж сложно постигнуть и нынешние спецназовские премудрости. В числе «упражнений, которыми может заниматься юношество», рекомендовались «Бокс (кулачный бой)», «Драка ногами (la savete)», «Фехтование. Бой на палках». Скорее всего, Пуаре тоже преподавал все это своим ученикам.
Однако странным диссонансом здесь выступает то, что старый национальный французский вид спорта борьба – решительно отвергнут. В предисловии к книге Варфоломей Сент-Илер категорически утверждает: «Во всяком случае, должно стараться, чтобы это соревнование не заходило слишком далеко, и вот почему я пропустил почти все борьбы, особенно борьбы в обхват, с целью повалить друг друга. Эти последние опасны по чрезвычайным усилиям, которые для них требуются, и потому что, обыкновенно, борцы слишком разгорячаются, и борьба часто превращается в ожесточенный бой. Вместо состязаний борьбою, можно с большим успехом исполнять приступы и состязания в бегании, прыганий и т.п.».
Лэнэ, написав несколько уважительных слов о славном прошлом борьбы, тут же решительно присоединяется к мнению уважаемого Сент-Илера: «По всему, что я заметил в школах, у меня и везде, где я видел занятия гимнастикой, я скажу, что борьбы, в которых противники должны схватываться телом к телу, всегда опасны: порождают задор и мало благоприятствуют порядку, который должно соблюдать при всех упражнениях; и так как есть много других средств, чтобы достигнуть цели, то я их совершенно уничтожил во всех местах, куда я был призываем, чтобы давать уроки».
Я думаю, что разгадка подобной нелогичности лежит в словах Лэнэ:
«…Цель моя – говорить только о тех упражнениях, которые более подходят к нашим нравам…». Хотя борьба уже успела перекочевать из ярмарочных балаганов юга Франции в такие фешенебельные парижские заведения, как «Фоли Бержер» или «Мулен Руж», борцы оставались малопочтенными циркачами, а борьба – грубым занятием простолюдинов. Стоит вспомнить, что даже в 1900 году сами французы не сочли возможным включить ее в программу парижских Олимпийских игр…
Заметным, хотя и весьма запоздалым признанием французских успехов стало в 1909 году учреждение в Петербурге Главной гимнастически-фехтовальной школы по образцу Жуанвильской с перенесением основных ее методов. А ровно через год открылась в Москве и вторая такая школа, где известный фехтовальщик Александр Люгарр преподавал не только классическое фехтование, но еще штыковой бой и французский бокс.
А несколько ранее, в конце XIX – начале XX века, во всем мире приобрели известность и первостепенное значение две системы французских ученых – Демени и Эбера. Наши специалисты старой школы, свободно владевшие иностранными языками, знакомились с их трудами прямо по мере публикации в оригинале на французском языке. А уже в 1899 году в Петербурге был издан первый русский перевод одной из работ Демени, положивший начало обширной библиотеке его переводов, продолжавших выходить и в советское время вплоть до 1930 года.



Такими схематическими «человечками» Ж . Демени обозначал свои боевые упражнения: удары палкой тростью), кулаками ногами – из французского бокса
Ту же самую судьбу разделили и публикации лейтенанта французского военного флота Эбера. Однако главная его работа – «Естественный метод физического воспитания» – пришла к русскому читателю с некоторым опозданием из-за Первой Мировой, а затем Гражданской войны. Но уже в 1923 году эта книга появилась на советских книжных прилавках. Спрос на нее был столь велик, что всего за два последующих года вышли в свет еще два издания, во всех подробностях излагавшие этот новый метод француза.
По сравнению с системой его учителя Демени, методика Эбера получила у нас более широкое практическое использование из-за своей новизны и благодаря массовому развитию физической культуры с первых же лет Советской власти. Хотя их использование имело несколько своеобразный, я бы сказал, плагиаторски-пролетарский характер. Признавая бесспорную ценность обоих методов, особенно естественного, наши ортодоксальные идеологи от физкультуры сильно смущались их «буржуазным происхождением». Поэтому пролетарские умельцы «творчески» вдыхали в эти классово чуждые системы истинно революционный дух и уверенно публиковали их под своими фамилиями. Но об этом я поведаю в следующей книге. А сейчас самое время рассказать о самих этих двух специалистах, оказавшихся в центре внимания всего физкультурного мира.
Жорж Демени (1850-1917) – ученый-физиолог, вдумчивый исследователь, ставший основателем «новой французской школы физического воспитания». Для своего времени гимнастика Демени явилась наиболее научно обоснованной. Он преподавал в знаменитой Жуанвильской военной фехтовально-гимнастической школе, и под его руководством составлялись наставления по физической подготовке для французской армии. Главным в методе Демени было использование не искусственно надуманных, а чисто утилитарных движений, необходимых в реальной жизни. Именно он ввел термин «суплес», то есть гибкость, ловкость, и придавал этому качеству большее значение, чем наращиванию мускулатуры. Первый раздел его системы состоял из подготовительных упражнений, развивающих такую гибкость, а второй давал прикладные упражнения, в числе которых были приемы защиты и нападения. В качестве таковых предлагалось фехтование палкой (тростью) и наиболее действенные удары руками и ногами из французского бокса. В эту же группу, как и в других системах, входили парные упражнения с сопротивлением.
Ученик Демени Жорж Эбер (1875-1957) был одним из наиболее талантливых выпускников Жуанвильской школы. Его «естественный метод физического воспитания» тоже делится на две части: воспитательную и прикладную. Одна из задач прикладной части состояла «в выработке умения выпутаться из тяжелых условий». А перечисляя «жизненно необходимые упражнения», Эбер называл знание приемов бокса и борьбы, умение пользоваться ими в случае внезапного нападения. Еще в воспитательной части им давались элементы самозащиты, а прикладная уже предусматривала вольные схватки по французскому боксу и двум видам борьбы. Кроме того, ученики овладевали фехтованием холодным оружием, посохом и тростью, а также стрельбой из револьвера и винтовки.
Из всех названных систем «естественный метод» Эбера был наиболее насыщен боевыми видами спорта, но он явно хватил через край, утверждая, что уже десятилетний ребенок «должен уметь… выполнять простые приемы борьбы и бокса» и «привести в беспомощное состояние вредного или опасного субъекта».
Французский бокс Эбер преподносил как две раздельные части: «бокс руками» и «бокс ногами». Это не могло не повлиять на оптимальное освоение комбинаций этих двух видов ударов. Довольно большим количеством приемов была представлена французская борьба. Но, вероятно, Эбер понимал не слишком большое значение этого, в значительной степени условного, единоборства и поэтому ввел в свою систему еще один вид борьбы – бретонскую. Эта национальная борьба в одежде, малоизвестная за пределами Франции, нашим специалистам не известна вообще. Между тем, она заслуживает того, чтобы с ней познакомиться поближе.



Приемы бретонской борьбы
Бретонскую борьбу обычно считают национальной борьбой французов, но это не совсем правильно. Бретонцы действительно граждане Франции, но считать себя этническими французами нипочем не желают и на самом деле таковыми не являются. Бретонцы – последние сохранившиеся в континентальной Европе потомки кельтов, как именовали их древние греки, или галлов – в латинском варианте. Сегодня о них справедливо говорят, как о вымирающем племени Европы. Но когда-то это был великий народ, владевший землями, разбросанными от Британских островов до Карпат и от Пиренейского полуострова до Ближнего Востока. Внушавшие страх всей Европе и даже взявшие однажды великий Рим воинственные племена, чьи боевые топорики с узким лезвием археологи так и называют – «кельты», умели не только воевать, но и создали еще замечательную, во многом загадочную культуру. Даже уже в Средние века у прославленных бретонских сказителей и бардов французы заимствовали многие сюжеты для своих популярнейших романов о рыцарях Круглого стола, волшебниках, коварных злодеях и прекрасных дамах. Да и сам институт рыцарства с его высоким понятием чести, рыцарскими турнирами и культом прекрасной дамы сердца тоже пришел в средневековую Европу из глубин кельтской истории. Мистические хэллоуины современных англичан и американцев тоже имеют кельтские корни.
Смертельные удары железных легионов Юлия Цезаря, а затем нашествие германских племен не только разрушили былое кельтское могущество, но и почти уничтожили этот древний народ или привели к его полной ассимиляции.
Бретонцы, или бритты, издавна обитали на Британских островах, что отражено в самом географическом названии. Но в V – VI вв. под неудержимым натиском германоязычных англосаксов они были вынуждены навсегда покинуть свои родные земли: Уэльс и Корнуолл. Переплыв Ла-Манш, бритты подчинили себе такую же кельтскую, но уже романизированную Арморику, принеся и на этот полуостров свое племенное имя – Бретань. А еще через тысячу лет эта последняя на континенте кельтская земля, в силу династических браков, оказалась поглощенной соседней и более могущественной Францией со всеми вытекающими из этого тягостными последствиями. Бретонцы, так же, как и их кельтские братья – шотландцы и валлийцы, на своей собственной земле превратились в национальные меньшинства, а ирландцы, и того хуже, – в колониальный народ. Новые английские и французские хозяева, не стесняясь в средствах, навязывали свои порядки и свои, чуждые кельтам, обычаи. А старинные кельтские традиции беззастенчиво и грубо попирались. Доходило даже до запретов изучения родного языка.
Ирландский профессор Маиртин О'Марчу по горькому опыту своего народа хорошо знал, о чем говорит, когда выдвинул обвинения англичанам и французам в традиционной враждебности к кельтской самобытности, этноциде и уничтожении национальных культур. На этом малопочтенном поприще великие державы – Англия и Франция – весьма преуспели. И, пожалуй, одним из сравнительно благополучно сохранившихся островков кельтской культуры остается спорт. Здесь они вполне успешно могут поспорить в древности не только с римлянами, но даже и с греками. Во французской прессе мне встретилось утверждение, что кельты еще в XVIII веке до новой эры уже проводили свои «Таильтианские игры» – более чем на целое тысячелетие раньше первых достоверно известных нам Олимпийских игр! Стоит ли верить подобному смелому утверждению или нет, трудно сказать, но остается фактом, что состязания в силе, ловкости, выносливости и быстроте издревле являлись доброй традицией этого народа. И дело было вовсе не в развлекательно-зрелищной стороне, а в насущной необходимости боевой подготовки молодежи.
Еще девятьсот лет назад шотландский король Мальком III приказал своим подданным состязаться в беге. В гористой местности это было совсем не легким испытанием, и Мальком наградил победителя высокой должностью королевского посла. Можно много говорить о старинных состязаниях кельтов, но я ограничусь всего лишь одним, но очень показательным примером.
Во втором десятилетии XIV века в кровавой битве при Баннокберне шотландцы наголову разгромили напавшую на них английскую армию Эдуарда II. А в 1332 году десятки шотландских кланов, как обычно, съехались в тогдашнюю столицу Инвернесс. На таких народных собраниях, подобных нашему вечу, издревле сообща обсуждались наиболее важные вопросы, и принятые решения обретали неколебимую силу закона. А по окончании собрания непременно устраивались молодежные состязания. Но теперь было решено, что отныне будут это не обычные, рядовые соревнования, а своего рода торжественный спортивный праздник в честь и в память одержанной важнейшей победы. Так было положено начало Северошотландским играм, которые не случайно называют еще «кельтскими Олимпиадами». Впоследствии их перенесли в близлежащий городок Бреймар, и название его означает для шотландцев то же самое, что и Олимпия для греков.
Наверное, это не очень легко представить, но вот уже почти семь столетий подряд из года в год в первую субботу сентября в эту почти безлюдную горную местность съезжается множество людей – участников игр и азартных зрителей.
Точно такие же, но более скромных масштабов, народные олимпиады – Горские игры – можно увидеть еще и в Абоине, и в Кирримьюре, где тоже собираются сильнейшие атлеты шотландских городов и поселков. И любое из таких состязаний непременно начинается с традиционного красочного парада горных кланов. Потомки знатных родов Шотландии с торжественной неторопливостью проходят перед зрителями, и те по расцветке и характеру клетчатого узора короткой – до колена – юбочки-кильта и небрежно наброшенного на плечо пледа сразу же узнают, какой именно клан вышагивает по стадиону. И только после этого под продолжающийся аккомпанемент шотландских волынок начинаются сами состязания. Однако по весьма своеобразной программе, резко отличной от того, к чему мы с вами издавна привыкли. Впрочем, стоит напомнить, что и вполне привычные нам такие номера легкой атлетики, как тройной прыжок и метание молота, тоже оставались непривычными до тех пор, пока их в позапрошлом веке не позаимствовали у шотландцев. Этот кельтский метательный снаряд был прямым потомком боевого молота с деревянной рукоятью и каменным навершием. И это не удивительно: любое упражнение было так или иначе связано с военным делом. Переноска больших валунов и метание тяжелых камней тоже были полезным боевым навыком. Особенно в горной местности, богатой камнями, которые всегда можно было обрушить на вражеские головы.
Есть в программе и такое совсем уже уникальное упражнение – метание с разбега лиственничного бревна длиной до 6 с половиной метров и весом до 72 килограммов. Бревно, описав в воздухе плавную дугу, должно удариться о землю тяжелым толстым концом и лечь строго по направлению бега метателя. При этом броски менее чем на двенадцать с половиной метров просто не засчитываются. А предания утверждают, что легендарный кельтский герой Кухулин мог швырнуть такое бревно на пятьдесят метров. Когда-то в древности кельтские воины таким необычным способом наводили переправы через пропасти и горные реки.
Прыжки с шестом тоже служили для преодоления подобных препятствий, а шестом вполне могло служить древко копья. Это отложилось в программе игр в виде прыжков с шестом, но не в высоту, а в длину.
И, конечно же, непременным видом состязаний является кельтская борьба. Чтобы участвовать в таком единоборстве, на ежегодные соревнования в Эдинбург собираются не только шотландцы, но еще и ирландцы, и валлийцы. И хотя скептики острят, что кельтского в этой борьбе остались всего-навсего лишь юбочки-кильты, в действительности она располагает эффективной техникой, сохраненной народом на протяжении многих столетий, а может быть, и тысячелетий.

Кельтская борьба
Как показательный пример можно привести древнюю боевую практику одного из ирландских племен. Воинскими премудростями там начинали овладевать с младенческих лет. Нужно было не только точно метать дротик, но еще уметь уклониться и даже поймать дротик врага и тут же отправить его обратно. Воины, сумевшие обзавестись дорогостоящим мечом, умели сражаться, держа его как в правой, так и в левой руке. Ирландские хроники говорят о героях, «работавших» двумя мечами одновременно.
А вот основой обучения безоружному бою являлась именно борьба, в которой использовались не только броски, но и такой болевой прием, как рычаг локтя.
Когда говорят о различных видах английской национальной борьбы, которых насчитывается целых шесть, то среди них непременно упоминают и корнуоллскую борьбу «корнишхью». Здесь, однако, возникает необходимость проверить подлинность ее английской генеалогии. Корнуоллская борьба, как говорит само ее название, зародилась и доныне практикуется на земле современного английского графства Корнуолл. Но давайте припомним, что именно Корнуоллский полуостров был родиной бретонцев, которую они вынуждены были покинуть пятнадцать веков назад. Так вот, захватив их земли, англосаксы «приватизировали» и такое кельтское наследие, как «корнишхью», которое заметно отличается от других английских видов борьбы в смысле техники и правил.
Корнуоллская борьба имеет и еще одно название – «за рубашку». В отличие от английской ланкаширской борьбы, где борцы выходили с обнаженным торсом, корнишхью – это борьба в одежде. Там облачались в подпоясанные рубахи из прочной грубой материи. Еще два вида старинной английской борьбы – кумберлендская и вестморлендская, хотя и велись в одежде, но там боролись в обхват. А в корнуоллской захваты делались именно за одежду – «за рубашку». Сопоставляя корнишхью с бретонской борьбой и обнаруживая в них много общего, можно утверждать, что это не просто «родственники», а что древняя коренная корнуоллская борьба являлась архетипом бретонской, тем древним кельтским корнем, из которого выросла бретонская ветвь.
Небезынтересно отметить, что еще один зеленый побег старинной борьбы умудрился проклюнуться даже и по другую сторону Атлантического океана – в США. Известный специалист двадцатых-тридцатых годов Н. Н. Ознобишин сказал об этом в своей книге: «Американской национальной системой самозащиты является «кэтч-эз-кэтчкэн» (поймай, как сумеешь), представляющий один их типов свободной (вольной – М. Л.) борьбы… Немалое влияние на образование американского стиля борьбы оказала и завезенная в Штаты из Англии система борьбы «подножками», так называемая корнишхью», родившаяся в Корнуэльсе». По принятой тогда классификации бретонская борьба, как и корнуоллская, в отличие от классической, греко-римской, считалась одним из видов вольной борьбы, поскольку там допускались броски, исполняемые с помощью ног. Такой более широкий технический диапазон, а также ведение схватки в одежде, а не в условном спортивном трико, давали бретонской борьбе значительно большую прикладную ценность по сравнению с ее французской сестрой. Это не мог не оценить автор «естественного метода» Эбер.
Его ученики, как и настоящие бретонцы, боролись босиком, но просторные бретонские рубахи заменили более доступными им короткими и узкими матросскими курточками. Здесь, несомненно повлияло то, что Эдер вел работу именно в военном флоте. По своему техническому характеру бретонская борьба напоминала старую русскую борьбу «не в схватку», «за вороток». Боролись только в стойке, и победу приносила касание партнера обеими лопатками земли.
Многолетнее соседство с французской борьбой не могло не повлиять на бретонскую в способах захватов не только за одежду. Но ее основой являлись именно захваты за одежду и пояс в следующих шести вариантах: одной рукой за одежду на плече; обеими за одно и то же плечо; одной за одежду у локтя, другой – у плеча; одной за ворот или за шею сгибом локтя, другой – за одежду у локтя; одной за пояс, другой – за одежду на плече или локте; обеими за пояс.



