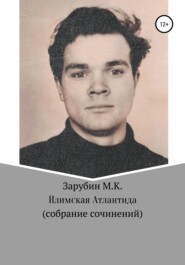 Полная версия
Полная версияИлимская Атлантида. Собрание сочинений
Теперь Иван Петрович чувствовал тупую боль то с одной, то с двух сторон, резко усиливающуюся при изменении положения тела. Она стала разливаться по всему организму, поднялось давление, температура, появились отеки на лице и на ногах. Бедный Иван Петрович испытывал жестокие боли при необходимой нужде и на унитаз смотрел, как на средство пыток.
Татьяна металась между ним и врачами центра, умоляя что-нибудь предпринять. Но те сами все понимали и уже не рассказывали о методах и способах, а готовили Ивана Петровича к операции. По каким-то причинам подготовка затянулась и, чтобы снять боль, его держали на уколах или, как говорили сестрички, прокалывали.
Наконец свершилось. Лапароскопическую операцию провели в течение часа под общим наркозом. В живот вставили трубку. Иван Петрович уже ни о чем не спрашивал и мысленно возвращался к тому благодатному времени, когда у него ничего не болело. Теперь, казалось, он стал другим человеком. Слово «инвалид» постоянно вертелось на языке. О работе он не думал, однако его отсутствие там не причинило никому никакого ущерба. Иногда звонили старые друзья-приятели, утешали, успокаивали, как могли.
Татьяна, сидя в роскошных апартаментах, ругала себя на чем свет стоит, она испытывала вину: ведь именно она настояла на медицинском обследовании. Прожив много лет с женой, Иван Петрович понимал ее и ничуть не винил.
Через четыре дня после операции его заставили подниматься и ходить. Однако место, где была трубка, вызывало жгучую боль. Прошло две недели, боль не отпускала, он хоть и бродил, но делал это с трудом, с перекошенным лицом и согнутым телом. Хирург, делавший операцию, в очередной раз осмотрев его, с непонятной для Ивана Петровича злостью сказал:
– Но этого не может быть, здесь нечему болеть.
– Значит, вы считаете, что я придуриваюсь, и мне доставляет удовольствие кособениться? – зло парировал несчастный пациент.
Хирург молчал, но по его виду можно было понять, что именно так он и считает.
Как и положено, через месяц вытащили трубку, и боль как рукой сняло. Хирург повинился, что совершенно случайно поставил трубку чуть длиннее положенного. Оказывается, в личной карточке Ивана Петровича его рост был указан значительно больше фактического, а трубку сделали по цифре, указанной в карточке. Много теплых слов при прощании произнес Сергей Иванович, поблагодарил Ивана Петровича за упорство в лечении, уверив в готовности центра всегда оказать медицинскую помощь, если это потребуется вновь. Иван Петрович все слова пропустил мимо ушей, мыслями он уже был дома, ему даже не верилось, что он вырвется из этого «сладкого ада». Конечно, зарекаться не стоит, но только в самом худшем случае или в бессознательном состоянии он может вернуться сюда.
Они с Татьяной вышли на улицу, блаженно вдохнув воздух. За то время, что Иван Петрович провел в больнице, в город пришла осень. Светило солнце, по-осеннему яркое, большое, как будто спелое, но уже не теплое. Желтые, красные, оранжевые листья, лишенные его внимания и ласки, покружившись в воздухе, с порывами ветра улетали, словно перелетные птицы, вдаль. По каналам сновали кораблики-пароходики, их вспененные следы прибивало волнами к гранитным набережным, где они, разбиваясь о замшелые камни, превращались в фонтаны брызг и растворялись в тяжелом городском воздухе.
Иван Петрович с наслаждением любовался картинками простой, не пятизвездочной жизни, о которой он так мечтал, находясь за больничными стенами. Он словно бы помолодел, обострилось зрение, усилилась чувственность, любовью к жизни исполнилось его сердце. Татьяна дотронулась до его плеча, поторапливая: их ждала машина. Счастливый Иван Петрович повиновался, но пошел не по дорожке, а прямо через газон, шурша опавшими листьями, вдыхая запах увядающей травы. Перед тем как сесть в машину, он оглянулся и долго смотрел на здание, в котором провел больше трех месяцев, а потом набрал охапку листьев, чтобы увезти домой на память.
– Что, Ваня, поехали? – обеспокоенно поторопила жена.
– Поехали, – согласился он, и уже в пути сказал ей: – Вот ведь странное дело. У нас существует два вида лечения: платное и бесплатное. Главная задача бесплатной медицины – ничего не найти, а уж если что-то обнаружили, то постараться побыстрее отвязаться от пациента. И это, оказывается, хорошо. Там с операцией не торопят. Нет денег – будешь ждать естественной смерти. А я вот первый раз в жизни побывал в учреждении, где все делают за плату. Другая крайность. Нет болезни – ее найдут, тут важно оправдать свой заработок, да еще и наварить хочется. И слов наговорят ласковых, и пальчиками наманикюренными тебя ощупают нежно. Но равнодушие к больному такое же, как в городской больнице.
– Ну, Ваня, ты не можешь жаловаться, ты был окружен заботой, а платила за тебя фирма. Просто ты устал.
– Наверное, устал, – согласился Иван Петрович. – Да я и не о себе сейчас, о больных вообще.
На работу он вышел через неделю. Кабинет его и приемная были закрыты. Секретаршу перевели в другое «ведомство». Уборщица здесь, похоже, не бывала давно, толстый слой пыли лежал на мебели. Перед Иваном Петровичем извинились, и быстренько привели все в порядок. Однако секретаря не вернули, пообещав об этом похлопотать позже. Глядя на пустынную приемную и кабинет, он испытывал чувство ненужности. Позвонил начальнику Управления, который занял его место, и другим руководителям, формально находившимся в его подчинении, услышал ненужные, пустые слова и пожелания здоровья. Никто не ставил перед ним никаких задач, не задавал вопросов, не просил помощи или советов. Жизнь на предприятии катилась по налаженным рельсам, и он ей был не нужен.
Генеральный директор оказался в отпуске. Неделю промаявшись, прочитав все газеты и журналы, что приходили в офис, Иван Петрович наконец-то встретился со своим начальником.
Дежурные слова о здоровье быстро иссякли. Генеральный, посмотрев на подчиненного поверх очков, произнес:
– Пока вас не было, мы приняли решение не создавать департамент. А вас – оставить в резерве. Будет необходимость и ваше желание, позовем на работу.
– Как это, позовем на работу? – тихо спросил Иван Петрович.
– Позовем, когда понадобитесь. А сейчас нужно написать заявление по собственному. При этом фирма выплачивает полугодовую заработную плату и награждает путевкой в санаторий. – И, безразлично взглянув на собеседника, холодно добавил: – С хозяином все согласовано.
На столе зазвенел телефон. Генеральный схватил трубку и кивком головы попрощался с собеседником.
Иван Петрович принял это решение спокойно. После перенесенных им в клинике мучений он психологически закалился, но сообразив, что прежде чем он вырвется на волю, надо будет еще съездить в санаторий, ужаснулся и, как обиженный ребенок, всхлипнул и тихо завыл.
Коммунальные платежи
Анна Петровна Поленова – наша добрая знакомая. Несколько лет назад мы жили с ней на одной лестничной площадке в сталинском доме на улице Стачек, недалеко от станции метро «Автово». Потом мы поменяли квартиру и уехали, но с Анной Петровной продолжали поддерживать добрые отношения, не забывая поздравлять друг друга с государственными праздниками и днями рождения. Я даже побывал у нее на даче, поскольку она просила советов, связанных с ремонтом.
После смерти мужа Анна Петровна живет на два дома: в петербургской квартире и в хорошем, добротном доме в маленьком городке под Петербургом. Теперь он называется дачей, а на деле – это родительский дом, в нем отец и мать Анны Петровны прожили жизнь, вырастили дочь, и этот дом ей, своей единственной наследнице, оставили.
Участок земли небольшой, не слишком ухоженный, но, может быть, именно это и придает ему поэтичность: старые яблони и смородина в саду плодоносят, а вдоль дорожки, что идет от ворот к дому, в начале лета расцветают кусты белой сирени. Здесь, в ласковых объятиях родной природы, радостно и душе, и уму, и сердцу. Здесь хорошо и солнечным днем, и в дождь. Но на любования окрестностями время у Анны Петровны нет, она не столько наблюдает, сколько знает, что ее окружает сосновый лес, в котором стоят дома, обнимает тишина, вдохновляют небеса. А вдохновение ей необходимо, потому что женщина находится все время в движении, присесть некогда, да и не хочется.
Дел на дачном участке всегда много, хотя к профессиональному огородничеству Анну Петровну никогда не тянуло, она возделала две маленькие грядки под зелень да пятачок земли под цветочную клумбу. Модных газонов не заводила, сил не было их подстригать и ухаживать, но когда трава вместе с побегами молодых кленов и рябин, семена которых разносил ветер, дотягивались до пояса невысокой хозяйки, она просила соседа, и тот за известное угощение и свежий корм для своих кролей охотно выкашивал участок.
Когда-то этот поселок носил поэтичное имя – Мельничный Ручей. Позже объединили три поселка и назвали районом города, однако городские дома и асфальтированные улицы были только в одном месте – на Котовом Поле, что вблизи знаменитой Дороги Жизни. Там же и местная власть располагалась, почта, и даже бассейн и много разного, что бывает в городе. Во всем же остальном все оставалось по-прежнему: деревянные дома, заборы, дачные улочки, к счастью, не тронутый сосновый лес.
Раньше в Мельничном Ручье были богатые пионерские лагеря и знаменитые летние базы отдыха, а сейчас, когда эта территория стала гордо называться Санкт-Петербургом, на большей части этих прежде государственных учреждений выросли частные дома-дворцы, где живут очень богатые люди, свидетельствующие всему миру о своем богатстве высокими заборами, охранниками и видеокамерами. Нет, зла у Анны Петровны не было ни на кого, и зависти тоже. Она многое повидала на своем веку, и сейчас радовалась этому уголку, который называла райским. С началом весны и до поздней осени женщина наслаждалась сладким, лечебным сосновым воздухом, ароматами своего детства. И благодарила Бога за эту возможность. И за то, что природа более постоянна, чем люди.
Последние два года она в основном жила на даче, а в город наведывалась каждый месяц на несколько дней, чтобы получить пенсию, оплатить коммунальные услуги и проведать квартиру. Тщательно вытирала пыль, придирчиво осматривала, всё ли на месте, и отправлялась обратно, в свой Мельничный Ручей. Ездить с возрастом становилось все труднее и дороже, но, несмотря на это, расставаться с квартирой Анна Петровна не хотела и даже разговоров о продаже слушать не желала. Она любила питерский дом – красивый, величественный, свидетельствующий о мощи минувшей эпохи. И свою квартиру любила: две просторные комнаты с высокими потолками, светлая уютная кухня, наполненная сложным шумом проспекта Стачек. Но в комнаты шум не попадал, массивная кухонная дверь служила хорошей звукоизоляцией.
Квартиру муж получил от Кировского завода, где работал металлургом в прокатном цехе. Анна Петровна сберегла в памяти давнее чувство, охватившее ее, когда они с Володей первый раз вошли в эту квартиру. От радости она заплакала, муж успокаивал ее, приговаривая:
– Ну, Аннушка, разве от радости плачут…
Она прижалась к нему и шептала:
– Не буду, не буду. – А слезы текли и текли по щекам.
Давно нет Володи. Конечно, она не рассчитывала, что они будут жить вечно, но что останется так скоро совсем одна – не предполагала. В тот день, когда муж уходил на работу, он вдруг остановился во дворе и, как оказалось, последний раз помахал ей рукой и послал воздушный поцелуй. А она, стоя у окна, засмеялась и смущенно, по-детски, отмахнулась.
Домой Володя больше не вернулся. Сердце остановилось. Он упал прямо в цехе, перед печами. Врачам удалось вывести его из клинической смерти, но через шесть дней он все-таки умер. Почему остановилось сердце, никто не знает, не нашли никакой патологии. Чувствовал он себя всегда хорошо, был бодрым, веселым, сильным.
С уходом Володи жизнь для Анны Петровны померкла. Она не замечала смены дней, не видела солнца, не задумывалась о погоде на дворе. Связывал ее с жизнью только внук, их любимец. Мысль о нем все нарастала и охлаждала боль потери любимого мужа.
Анна Петровна все дольше разглядывал географическую карту, высматривая место, где сейчас служит внук. О воинской службе он мечтал с детства. Камчатка казалась другой планетой. Письма от него приходили редко, а встречи по пальцам можно сосчитать. Именно для него берегла квартиру Анна Петровна, зная, что служба когда-нибудь кончится, что он вернется сюда. А внук все не приезжал, отговаривался: «Успеется, впереди целая жизнь». Она-то знала, что жизнь – только миг.
Материально жить становилось все труднее, однажды Анна Петровна решила сдать квартиру внаем, прибавка к пенсии не помешает. Попала на мошенников, которые начали приватизировать ее квартиру для себя. Испугалась, после того случая никого уже в дом не пускала. В апреле ей исполнилось восемьдесят пять лет, и хоть старушка она была шустрая, все равно мотаться в город на автобусе, электричке и метро было нелегко.
Вот тогда она и воспользовалась услугой Сбербанка, которую мы с женой ей насоветовали. Дело простое. Получая деньги на отдельный счет, пенсионер может полностью избавить себя от хлопот по оплате коммунальных услуг. Достаточно оформить в Сбербанке длительное поручение, и со счета автоматически и точно в срок будут переводиться необходимые суммы. Контролировать операции можно просто – с помощью информации о платежах банком – об этом сообщается на сотовый телефон. Сколько радости было у Анны Петровны! Такое облегчение ее забот.
Однако месяца через четыре она позвонила мне, и я сразу почувствовал неладное.
– Миша, помоги мне, пожалуйста.
– Что случилось, Анна Петровна?
– Да особо ничего не случилось, только после того, как я заключила договор со Сбербанком, меня уже дважды оштрафовали за несвоевременную оплату коммунальных услуг. Я уже несколько раз обращалась в банк, но все безрезультатно. Ссылаются на компьютер и обещают разобраться. Но ничего не меняется.
Через час я с Анной Петровной был в банке. Тесное помещеньице, четыре стеклянных окошка для операторов. Работают всего двое, на остальных висят таблички с извещением о перерыве на обед. Народу много, страшная духота, очередь продвигалась медленно. Я давно не попадал в такие условия. Мне казалось, как обещали руководители страны, очереди должны были исчезнуть с приходом демократов и их рынка. Ну, разве что в кассы стадионов или на гала-концерты известных исполнителей очереди еще случались. Однако нет, они не стали приметой прошлого, а благополучно перетекли в настоящее и будущее. Сесть было некуда, только в уголке стоял маленький, почти игрушечный столик с такими же игрушечными стульями. Кое-как уговорил уже немолодую женщину, чтобы она уступила место Анне Петровне.
Показались бесконечными два часа мучительного испытания, когда малейшее неосторожное движение, необдуманное слово или желание «продвинуться» без очереди может привести к неконтролируемому взрыву эмоций нескольких десятков человек. Наконец мы прильнули к окошечку, за которым сидела женщина лет тридцати с усталым, потным лицом и, казалось, у нее было одно желание – закрыть глаза, заткнуть уши, чтобы не видеть и не слышать всего, что творится вокруг. Раза два я повторил просьбу – проверить, по какой причине со счета Анны Петровны сняты штрафы за несвоевременную уплату коммунальных услуг. Женщина-оператор смотрела на меня равнодушно-непонимающим взглядом, потом и вправду зажмурила глаза, обхватила на доли секунды лоб рукой, откинула руку и, широко открыв глаза, шипяще спросила:
– А я при чем?
– Тогда скажите, кто при чем? За этим мы к вам и пришли.
– Не мешайте работать, это не мой вопрос.
– Вы думаете, отстояв два часа, я просто так уйду? – грозно спросил я.
Все это приходилось говорить в небольшое овальное отверстие внизу окошка, куда суют документы и деньги для оплаты. Диалога на равных явно не получалось. Я постоянно нагибал голову, фокусировал слух, чтобы понять ответы на мои вопросы оператора. Но, как я понял, ответ заключался в том, что меня прогоняли. Очередь нервничала, злилась, торопила меня. Я попытался давить на жалость – подтверждал почтенный возраст Анны Петровны, объяснял, что ей очень трудно стоять в очередях. Наконец ситуация, как мне показалось, качнулась в мою сторону.
– Я позову старшего по смене, – смилостивилась женщина в окошке и ушла. Ее не было минут пять. Спиной чувствовал, как накаляется очередь, там не просто на нас роптали, там уже слышалось угрожающее рычание.
К счастью, старшая по смене оказалась более компетентным и доброжелательным человеком, может, не так утомилась от клиентов за день. Она взяла договор, села за компьютер, красивыми пальцами с изысканным маникюром и дорогими кольцами совершила некие манипуляции на клавиатуре, посмотрела на экран и сказала:
– Нашей вины здесь нет, был сбой компьютера, и платежи не прошли.
Я обомлел, переводя взгляд со старшей смены на оператора. Старшая уже собирала листы договора, чтобы передать мне:
– Я ответила на ваш вопрос?
– Постойте, постойте, – вскрикнул я. – Я не за ответом, а за помощью пришел. А кто виноват? Вы ведь виноваты!
– Нет, компьютер, – тут же ответила старшая.
– Но позвольте, Анна Петровна Поленова не с компьютером заключила договор.
– Да, но она же была «забита» в компьютер, а он дал сбой, – резонно, как тупому двоечнику, который не понимает простых вещей, объясняла мне старшая смены. – Мы-то здесь при чем? Мы простые исполнители.
– Уважаемая, но ведь компьютер – это ваш инструмент, с помощью которого вы работаете.
Холодный и липкий взгляд безразлично скользил по моему лицу. Она уже не слушала, что говорил я, упиваясь начальственным тоном своего ответа:
– Не отнимайте, пожалуйста, у нас время. Не нравится – пишите заявление. Мы его в течение месяца рассмотрим и дадим ответ.
– Но здесь все ясно, как божий день, можно сейчас все решить!
Теперь уже две женщины, два специалиста Сбербанка равнодушно отвернулись от меня и занялись своими делами. Очередь, которой надоело наблюдать нашу тягостную историю, загудела, и я понимал, что если через мгновенье не отойду от окошка, меня вырвут вместе со стеклом и подоконником. Я вынужденно повиновался.
Позднее мне пришлось применить все свои связи, чтобы выйти на начальников этого Банка и исправить их ошибку. Конечно, все исправили, Анна Петровна получила тысячу извинений и «подарок» от банка: ей вернули неправильно снятые штрафы.
Встречая Анну Петровну, я больше не спрашиваю о том, как она платит за коммунальные услуги. Она тоже не жалуется. Значит, компьютер работает нормально. А может, платит она, как и раньше, в окошечко после стояния в жаркой очереди…
Зато я спрашиваю ее о внуке. И она, светлея лицом, каждый раз уверяет меня, что он скоро, очень скоро вернется…
Письмо Чубайса
Деревня Михайловка стояла на берегу большого озера, беззащитно зарастающего камышами, но, несмотря на заброшенность, до сих пор выглядела красивой. Тамара Ивановна и Иван Сергеевич жили здесь всю жизнь. Деревня в свое время была многолюдной, с начальной школой и клубом. Иван Сергеевич покидал деревню только раз в жизни – на три года, когда служил в армии. Тамара Ивановна за шестьдесят лет больше чем на месяц из родного дома не уезжала. Когда-то здесь был богатый колхоз. Она работала дояркой, а Иван Сергеевич плотником.
Деревня в лучшие свои годы насчитывала двадцать пять дворов. Сейчас, когда пришла новая власть, все, кто мог, уехали за обещанной счастливой жизнью, побросав и дома, и землю, долгие годы бывшую кормилицей. Из окна страшно выглянуть, словно враг прошелся по селу. Справа – дом без крыши, слева – пятистенок с пустыми глазницами окон и хлопающими, оторванными ставнями. Обитаемых осталось всего пять дворов. В двух живут два брата, Никита и Владимир, немолодые уже, однако ездят на заработки в крупные города, разрываясь между деревней и работой. Еще в двух – Светлана Петровна со взрослой больной дочерью, и дед Степан, глухой старик, похоронивший здесь всех родных и сам ожидающий каждый день смерти.
В деревне уже давно пропал свет, «добрые люди» провода «свинтили» и продали на металлолом, газа отродясь не было, а год назад из-за ужасного состояния дороги в деревню перестала ездить автолавка райпо. До цивилизации, то есть до ближайшего села Демидова, где есть магазин и аптека, от Михайловки двадцать четыре километра. До деревни Ягодное, куда раз в неделю машина все еще приезжает, четыре километра, но идти надо «заповедными тропками», через лес и овраги. Куда только ни обращались брошенные на произвол судьбы жители, даже в прокуратуру. Помочь их горю, сделать хоть что-нибудь местные власти не могут, ответ один – нет денег.
В теплое время года жизнь еще терпима, но когда приходит зима и вокруг деревни начинают выть волки, которых развелась тьма тьмущая, становится невмоготу. Однако живут. Деться-то некуда. Вот и Тамара Ивановна и Иван Сергеевич всю жизнь здесь, детей не завели, в город ехать не к кому…
К прибытию автолавки ходят в Ягодное. И пенсию получать туда же, по очереди. Все в округе их знают, потому и пенсию дают, доверяют. Но все равно, если кто два месяца подряд не появится, пенсию задерживают. Думают, наверное, помер.
Однажды Тамаре Ивановне пришло письмо. Конверт большой, с картинкой, марки на нем красивые, разных штемпелей со всех сторон понаставлено. А надо сказать, что писем они с Иваном Сергеевичем лет двадцать не получали, газет они тоже не читали. Телевизор у них был, но при отсутствии света превратился в копию известного полотна Малевича.
Вручая Тамаре Ивановне письмо, водитель автолавки, он же и продавец, и почтальон, сказал:
– Ну что, Тамара Иванна, до Чубайса дошла? Теперь-то уж точно свет вам проведут.
– А кто это – Чубайс?
– Да ладно придуриваться-то. Этого рыжего каждая собака в России знает. Столько «добра» этот злыдень России понаделал, что только глухой о нем не слышал.
Тамара Ивановна не стала спорить со знающим человеком, осторожно взяла конверт и положила в сумку, решив, что если такой важный человек написал ей письмо, то читать его надо обязательно вместе с Иваном Сергеевичем. Вдруг радость какая – а радостью, как хлебом, положено делиться.
Придя домой, вытерла она дочиста старенькую клеенку на столе, посадила напротив Ивана Сергеевича, зажгла свечку, вскрыла конверт, надела очки и стала читать. На бланке было написано:
«Россия, деревня Михайловка Демидовского р-на
Евсеевой Тамаре Ивановне»
Это адрес. Потом стоял длинный номер. А дальше само письмо:
«Уважаемая Тамара Ивановна!Обращается к Вам Анатолий Чубайс, Председатель Правления РАО “ЕЭС России”. Я пишу Вам, чтобы объяснить, для чего РАО “ЕЭС России” проводит реформу электроэнергетики и почему она не приведет к “обвальному росту цен”, которым сейчас пугают людей многочисленные политики и экономисты.
По инициативе РАО “ЕЭС России” Правительство принимает трехлетнюю программу сдерживания тарифов на электроэнергию на 2004–2006 гг. Это важная часть нашей реформы. Суть плана – в том, чтобы цены на электроэнергию в России росли медленнее, чем цены на другие товары и услуги. По нашему плану уже в 2006 году рост энерготарифов составит 7–7,5 %, что не превысит прогнозируемого Правительством уровня инфляции.
По нашим расчетам, три года – это минимальный срок, который нужен для того, чтобы обуздать энерготарифы по всей стране – без ущерба и для Вас, и для РАО “ЕЭС России”.
Подчеркиваю: мы не даем невыполнимых обещаний, мы говорим о сдерживании тарифов, но не обещаем, что цены на электроэнергию остановятся раз и навсегда. Ведь все дорожает, включая и топливо для наших электростанций – газ, уголь, мазут. Тем не менее, мы проводим программу сокращения собственных затрат во всех энергокомпаниях РАО “ЕЭС России”. Благодаря этому нам удалось только в 2002 году сэкономить порядка 14 млрд. рублей. Эти средства направляются на проведение ремонтных работ в энергокомпаниях, замену устаревшего оборудования, кроме того, мы приняли решение направить часть этих денег на реализацию программы сдерживания тарифов. Уже с 1 ноября в пяти регионах России – Санкт-Петербурге, Свердловской, Ленинградской, Нижегородской и Пермской областях энергокомпании поставляют потребителям электроэнергию на 20 % дешевле. Это стало возможным потому, что за последние несколько лет мы научились работать без авралов. Мы ввели в строй первую очередь Бурейской ГЭС – станции, которая обеспечивает недорогой электроэнергией Дальний Восток. Мы достраиваем вторую очередь крупной Нижневартовской ГРЭС в Тюменской области. Мы начали восстанавливать единое энергетическое пространство бывшего СССР: РАО “ЕЭС России” уже управляет энергетическими мощностями в Грузии и Армении, ведет переговоры о том же в Казахстане и на Украине.



