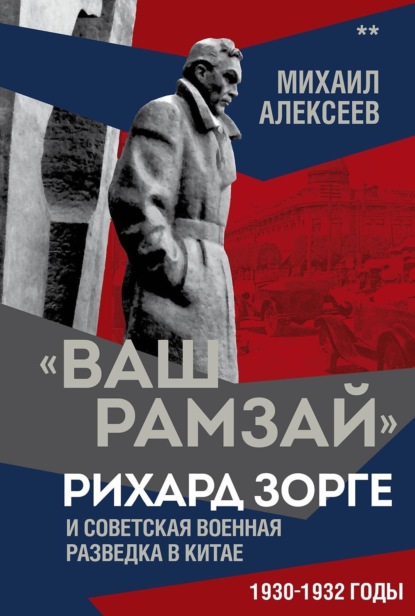
Полная версия:
«Ваш Рамзай». Рихард Зорге и советская военная разведка в Китае. 1930-1932 годы. Книга 2
Фрейлих.
Фельдмана надо отозвать.
26/XII Берзин».
Причины произошедших провалов, конечно, коренились не только в неконспиративных действиях Гайлиса, но и в практическом отсутствии среди руководства Компартии Китая профессионалов, готовых к работе в нелегальных условиях.
Возглавлявший Дальневосточное бюро Исполкома Коминтерна в Шанхае, уже находившийся в Москве И. А. Рыльский (Игнатий (Ян) Антонович Рыльский-Любенецкий) отмечал, в частности, 20 марта 1930 г.:
«1) После VI съезда [КПК] полицейский террор вырвал много партийных работников. Составы профессиональных комитетов арестованы несколько раз. Ничтожный процент арестованных возвращается на работу. Это создало такое положение, что центральный и провинциальный активы партии совершенно недостаточны для выполнения стоящих перед партией задач. В самом ЦК осталось всего 9 товарищей, из которых 7 работает в ПБ. Вся политическая обстановка в Китае и расширяющиеся партийные организации и связи требуют от партии усиления её руководства. Из находящихся в Китае товарищей, по словам китайских товарищей, нельзя подобрать ответственных товарищей на посты провинциальных секретарей и на заведующих центральными отделами (имеются в виду отделы ЦК КПК). Наиболее чувствительным недостатком является отсутствие практических и организационных работников, ориентирующихся в крестьянском вопросе. Специально нужно поговорить о военном вопросе, ибо партийная работа в армии милитаристов и работа в существующей Красной армии (30 тыс. солдат Красной армии, 15 тысяч штыков и довольно большая территория, занимаемая нами) требуют усиления партийного руководства этой работой и поднятия её на более высокую ступень».
Единственным источником, по мнению Рыльского, из которого можно было бы подобрать необходимых товарищей, являлась Москва «с её многосотенным китайским студенчеством и порядочной эмиграцией».
Арест китайского коммуниста означал только одно – пытки и расстрел, если задержанный не становился на путь сотрудничества с гоминьдановской контрразведкой.
В шанхайской резидентуре прекрасно понимали, чем грозят контакты с Фрейлихом и его людьми. 22 декабря 1930 года из Шанхая была отправлена шифртелеграмма следующего содержания: «Из-за провала группы китайцев, с которыми были связаны другие из людей Фрейлиха, и плохой конспиративности считаем абсолютно необходимым срочный отъезд их, а относительно Фрейлиха советуем, что его отъезд был бы также не лишним. Их пребывание здесь может скверно отразиться на нас, несмотря на нашу осторожность. № 38
Рамзай, Филипс
II.
Фрейлиху дать указания. Рамзаю и Филипсу категорически воспретить связь с Фрейлихом. 25/XII Берзин».
Рекомендация Зорге и Шмидта о срочном отъезде из Шанхая «людей Фрейлиха» относилась в полной мере и к самому Гайлису.
Реакция Центра была половинчатой и поступила 27 декабря 1930 г.: группа «Фрейлиха – Фельдмана» была оставлена на месте, а Зорге и Шмидту запрещалось поддержание с ними связи:
«Деньги для Вас привезёт Фрейлих. После передачи Вам денег категорически запрещаем поддерживать какую-либо связь с Фрейлихом и его людьми». Судя по всему, Фрейлих должен был привезти деньги из Харбина, куда он ездил отвозить почту.
20 октября 1930 г. Дальбюро отправило письмо в руководящий орган ИККИ – Малую комиссию Политсекретариата. В нём оно в резкой форме высказало свои претензии к работе представителя Отдела международных связей (ОМС) ИККИ в Шанхае «Альбрехта» (А. Е. Абрамовича). Главной задачей пункта связи ОМСа в Шанхае являлось осуществление конспиративных связей между ИККИ и коммунистическими партиями других стран Дальнего Востока и ЮВА, что включало в себя пересылку политической, в том числе коминтерновской, литературы, получением и отправкой почты, передачей документов, директив и денег представителям компартий, переброску функционеров по суше и по морю из страны в страну, в том числе в СССР и т. д.
Суть претензий, предъявляемых к Абрамовичу, – осуждение финансовой его политики, выразившейся в отказе в выделении требуемых средств «киттоварищам», а также в его нежелании согласовывать с Дальбюро отправления курьеров в Центр. Ввиду «постоянных помех» со стороны А. Е. Абрамовича работе на Дальнем Востоке, принявших в последнее время характер «прямого вредительства движению», Дальбюро предлагало снять его с работы представителя ОМС в Шанхае.
Критика была как объективна, так и субъективна. С одной стороны, не Абрамовичу следовало решать давать или не давать «киткоммунистам» требуемые суммы, а представителям ИККИ, входившим в состав Дальбюро в Шанхае. С другой стороны, Абрамович не мог дать больше, чем имелось в его распоряжении. К тому же он справедливо считал, что большие безотчётные деньги развращали тех, в чьи руки они попадали. На финансирование КПК шли суммы, переводимые в Шанхай из Европы и перевозимые курьерами через Харбин из Москвы. На эти цели изымались также деньги, изначально направляемые на развитие фирмы «Чайна Трейдинг Ко», деятельность которой обещала стать успешной и в чем, казалось, была получена поддержка со стороны руководства Коминтерна. Абрамович верил в то, что прибыль от фирмы должна послужить позже и источником финансирования компартии. Однако всё это могло быть лишь в будущем, а пока он не считал возможным изымать деньги из оборота фирмы, чтобы удовлетворить всё возраставшие запросы компартии, коммунистических профсоюзов и комсомола. Как бы то ни было, единственным виновным в создавшейся ситуации оказался Абрамович. На него жаловались и свои, и чужие коммунисты.
Малую комиссию Политсекретариата возглавлял И. А. Пятницкий. Именно он являлся последней инстанцией, именно к нему обращались представители и ИККИ, и ОМС за решением возникавших между ними проблем. И вердикт обычно был не в пользу представителей Исполкома Коминтерна, но не в данном случае.
На место Абрамовича предлагалось назначить сотрудника ОМС «Анри» – Я. М. Рудника[9], который находился в Китае с 1928 г. и в качестве своего прикрытия использовал фирму «Чайна Трейдинг Ко».
Руководитель объединённой резидентуры (ИНО ВЧК-ГПУ и Региструпра ПШ РВС Республики – РУ штаба РККА) во Франции (март 1921 – январь 1922), с 1925 г. Рудник являлся сотрудником Отдела международных связей ИККИ в Австрии – был прикомандирован к советскому полпредству в Вене под фамилией «Луфт». Он отвечал за переправку финансовых средств, занимался подготовкой заграничных поездок коминтерновских руководителей и посланцев компартий, разрабатывал для них маршруты следования, обеспечивал явками и фальшивыми документами.
Работавшая вместе с мужем в Вене Элизабет Порецки так характеризовала Рудника: «Ему было около тридцати пяти лет. Всегда опрятный, подтянутый, он, однако, производил при первом знакомстве странное впечатление: Люфт (так в тексте. – Авт.) находился в состоянии постоянного напряжения – не переставая двигался, когда говорил, в разговоре часто перескакивал с одного языка на другой, не замечая этого, темпераментно жестикулировал, глядя на собеседника глазами, полными огня и страсти. Хотя Люфт и не принадлежал к оппозиции, он часто слишком открыто высказывался о партийном руководстве СССР и разрушительных для партии методах его работы. Кроме того, у него были дружеские отношения с послом Иоффе…»
В Шанхае Рудник находился с женой, Татьяной Николаевной Моисеенко-Великой[10] (в прошлом, а возможно, и к моменту приезда в Шанхай, – сотрудницей ИНО ОГПУ) и трёхлетним сыном Дмитрием (Джимми – затем учился в Ивановском интердоме). Итак, Яков Матвеевич Рудник имел славное революционное прошлое, опыт нелегальной работы, прерывавшийся, однако, арестами, что не могло не настораживать.
В конце 1930 г. Абрамовича отозвали, и с его отъездом в начале января 1931 г. представителем ОМС в Шанхае стал Рудник. В работе он не стремился следовать бескомпромиссной линии своего предшественника, что вполне устраивало всех – и членов Дальневосточного бюро, и китайских коммунистов. Однако развернуть активную деятельность ему не удалось.
1.4. Некоторые аспекты национально-психологических особенностей китайцев первой трети XX в.
Китайцу не важно, как построена фраза, лишь бы она рождала образ, с которым он знакомСпецифика работы иностранцев в Китае в отличие от Европы и США заключалась в существовании «языкового барьера». В Европу или Америку разведчики приезжали чаще всего со знанием языка страны пребывания. Китайского же языка сотрудники Разведупра, как правило, не знали и не могли непосредственно общаться с китайцами, поскольку редко кто из них в начале 30-х годов мог изъясняться по-английски. И здесь проблема заключалась не столько в отсутствии желания Центра достойным образом подготовить работников, а в сложности, связанной с такой подготовкой. Неподготовленному европейцу было практически невозможно ни понять, ни объяснить поступков и действий отдельных китайцев.
В самом Китае китайский язык как единый национальный устный язык отсутствовал (был сформирован только к 1955 г.). В условиях отсутствия единого устного языка в Китае традиционно существовала система средств общения, состоящая из унифицированного письменного языка «баихуа», основанного на диалектах Северного Китая XIV–XVI вв. Одновременно на всей территории Северного Китая получил распространение «язык чиновников» (гуаньхуа), основанный на пекинском диалекте. Это был язык государственных служащих – как маньчжур, так и китайцев. Он и лёг в последующем в основу современного литературного языка, по-английски получившего наименование Mandarin language.
Китайская письменность имела зрительную природу; она зародилась и развивалась обособленно от устной речи. Основой китайской письменности является иероглиф. Современная иероглифика (понятийные идеографические знаки) развивалась из рисуночного письма, иначе называемого пиктографией. Знаки рисуночного письма отражали внешний вид, форму отдельных предметов и явлений окружающей человека действительности. Постепенно упрощаясь и схематизируясь, рисунки превращались в систему идеографического письма, в котором каждый знак передавал самую общую идею обозначаемого им предмета, явления, понятий.
Иероглиф – это своего рода схемка, аккумулирующая в себе определённый объём информации, взглянув на которую можно удовлетворить потребность в некоторых знаниях. Поэтому китайцы привыкли к восприятию по образу, по ассоциации. «Китайские поэты мне говорили, – писал И. Эренбург, – что китайские стихи нельзя слушать, их нужно читать – иероглиф рождает образ».
Важным следствием зрительной природы письма стала относительная неразвитость в китайском языке грамматических и синтаксических форм. Китайский разговорный язык по своей форме, синтаксису и словарному запасу, словообразованию предполагает величайшую простоту мышления, конкретность образов и экономию синтаксических связей. Слова, соответствующие предлогам, союзы и относительные местоимения, характерные для западных и многих восточных языков, в нем очень редки. Нет никакого различия между единственным и множественным числом. Отсутствуют фиксированные окончания для выражения времени или наклонения глаголов. Нет падежей. Одно и то же слово может выступать в качестве существительного, прилагательного или глагола. Значение слова определяется, как правило, его положением во фразе: вначале стоит подлежащее, за ним следуют сказуемое и дополнение или обстоятельство места.
Китайцу не важно, как построена фраза, какие грамматические правила используются в ней, лишь бы она рождала образ, с которым он знаком. В соответствии с этим образ мышления китайцев в целом можно назвать образно-ассоциативным. Особенности китайского языка определили и практический образ мышления китайца. Китаец, как правило, отдаёт предпочтение простым логическим построениям как наиболее доступным для восприятия.
Несмотря на стремление отразить в письменных знаках звучание соответствующих слов, в Китае так и не возникло ничего подобного звуковой азбуке, принятой в Корее и Японии. Причина тому лежит, без сомнения, в особенности звукового строя китайского языка, состоящего из весьма ограниченного числа слогов (немногим более 400 в нормативном произношении, в то время как в английском языке слогов 1200). Учитывая, что в китайском лексиконе насчитывается до 50 тыс. слов (иероглифов), каждый слог соответствует здесь необычайно большому количеству слов. Правда, каждый слог в нормативном произношении может поизноситься четырьмя разными способами – так называемыми тонами, что для китайцев (но далеко не всегда для иностранцев) значительно уменьшает вероятность смешения слов при восприятии языка на слух. Тем не менее даже в базовой китайской лексике слогу «и» в четвёртом тоне соответствуют более сорока различных иероглифов. Для того чтобы лучше различать одинаково звучащие слова, китайцы со временем все чаще стали прибегать к созданию двусложных и даже трёсложных слов. В настоящее время считается, что для чтения литературных произведений достаточно знание 7–9 тыс. иероглифов.
Иероглифическая письменность, оторванная от устной речи, была едва ли не главным фактором сохранения политического и культурного единства «китайского мира» при наличии большого числа местных диалектов.
К сказанному следует добавить, что до сих пор существует большое количество диалектов китайского языка (семь диалектных групп, в каждой из них несколько подгрупп), которые различаются между собой настолько существенно, что общение между людьми без специальной подготовки не всегда возможно. Каждый слог китайского языка в диалектах произносится девятью различными тонами.
О коллизиях, с которыми сталкивался иностранец, выучивший, как он сам считал, китайский язык, красочно и иронично писал англичанин А. Смит. Его наблюдения относились к началу XX в. Он выделил целый ряд психологических характеристик китайцев, дав им свои определения и проиллюстрировав забавными рассуждениями и примерами.
Интеллектуальная туманностьОдна из психологических характеристик китайцев, относившихся к языковым трудностям, с которыми сталкивались иностранцы в Китае, была определена Смитом как «интеллектуальная туманность».
«Существительные в китайском языке, – отмечал Смит, – по-видимому, не могли быть склоняемы. Они были совершенно лишены „родов“ и „падежей“. Китайские прилагательные не имели степеней сравнений. Китайские глаголы не были подвержены никаким стеснениям в виде „залогов“, „наклонений“, „времен“, „чисел“ или „лиц“. Не существовало никакой видимой разницы между прилагательными, существительными и глаголами, так как всякое слово (иероглиф) могло быть употреблено в любом смысле (или бессмыслии), не вызывая никаких замечаний».
Смит, по его утверждению, был далёк от мысли, чтобы утверждать, что китайский язык для передачи явлений человеческой жизни непригоден или что существуют обширные области человеческого мышления, которые трудно или невозможно передать «удобопонятно» на китайском языке, хотя порой это так и казалось. Смит настаивал только на том, что язык с таким построением сам вызывал «интеллектуальную мутность» точно так же, как летний зной клонил к послеобеденному сну.
Тот факт, что китайский глагол не имел времён, что перемена времени или даже места ничем не обозначалась, конечно, не вносил большую ясность в представления иностранца о чем-то смутном по природе своей. При таких обстоятельствах самое лучшее, что мог сделать бедный иностранец, желавший не подавать виду, что он, по крайней мере, не совсем потерял нити исчезнувшей мысли, – это задать ряд простых вопросов, наподобие того, как охотник прокладывает себе тропу топором через непроходимый лес. «Кто это лицо, о котором вы теперь говорите?», «Когда вы это узнали?», «Где это происходило?», «Что этот человек сделал?», «Что они сделали по этому поводу?» и т. д.
Самая обычная вещь в разговоре с необразованным китайцем – это, по утверждению Смита, крайнее затруднение в понимании того, о чем он говорит. Иногда замечания китайца как будто состояли исключительно из сказуемых, самым причудливым образом переплетённых между собой, и вся его речь была подобно гробу Магомета, как бы свободно висевшему в воздухе. По представлению говорившего, опустить подлежащее – дело не важное. Он ведь знал, о чем он говорит, и с ним никогда не случалось, чтобы эта довольно-таки важная часть предложения так или иначе не представлялась уму собеседника. Просто удивительно, в каких великолепных отгадчиков превратил большинство китайцев долгий опыт, научая их придавать словам такой смысл, который им несвойствен, путём простого снабжения предложения соответствующими подлежащими и сказуемыми, исходя из того, чего недоставало. Очень часто самое важное слово в предложении опускалось, несмотря на то что ключ к его отгадке мог быть совершенно неизвестен. Часто во всем построении предложений, в манере говорившего, в тоне его голоса или же в сопутствующих обстоятельствах отсутствовали какие-либо указания на то, что разговор перешёл на другую тему. Как говоривший свернул с прямой нити разговора и как он опять вернулся к ней, часто оставалось неразрешимой загадкой, но, тем не менее, этот подвиг совершался ежедневно в разговорах китайцев между собой и с иностранцами.
Выдающимся примером «интеллектуальной туманности» являлась распространённая привычка не давать объяснения какому-либо факту, а ограничиваться его констатацией. «Почему вы не кладёте соль в хлеб?» – задавали вопрос китайскому повару. «Мы не кладем соль в хлеб», – получали ответ на поставленный вопрос.
Для необразованного китайца всякая мысль являлась сюрпризом, к которому он далеко не всегда был подготовлен. Он не понимал, потому что он не надеялся понять, и для него требовался значительный промежуток времени, чтобы «…привести умственные силы в должное к употреблению состояние».
Из характеристики, названной Смитом «интеллектуальная туманность», – это проблема передачи сообщения одному китайцу через другого без искажения самого сообщения: «Сказать А что-нибудь для передачи В, с тем чтобы С в своих действиях мог руководствоваться сказанным – это принадлежит в Китае к самым бестолковым начинаниям. Или поручение вовсе не будет передано, потому что лица, которым это было поручено, не сочли его важным, или же оно доходит до С в такой форме, что он не в состоянии его понять, а то и в форме, совершенно несогласной с первоначальной. Предположить, чтобы три зубца в такой сложной машине могли так исправно входить один в другой, чтобы не производить трения, достаточного для остановки всего механизма, это значит питать крайне дикую надежду. Даже умы значительной силы находят для себя очень трудной задачей воспринять известную мысль и затем её передать без прибавлений и изменений».
Талант непониманияО языковом барьере, с которым приходилось сталкиваться иностранцу, Смит говорил и в другой характеристике, которую он назвал «талант непонимания»: «Это замечательное дарование китайского народа, впервые замечаемое иностранцем, когда он достаточно знаком с языком, чтобы пользоваться как средством для передачи своих мыслей. С крайней грустью и удивлением он находит, однако, что его не понимают». Но равным образом становилось очевидным и то, что китаец и не надеялся понять собеседника. Он явно не обращал никакого внимания на то, что ему говорили, не делал ни малейшего усилия, чтобы следить за речью, просто-напросто китаец прерывал иностранца, замечая: «Когда вы говорите, мы не понимаем». И на лице его была улыбка превосходства, как у человека, наблюдавшего за усилиями глухонемого произнести членораздельную речь и собирающегося сказать: «Кто вообще предполагал, что вас можно будет понять? Это, может быть, ваше несчастье и не ваша вина, что вы не родились с китайским языком, но вы должны спокойно переносить ваши недостатки и не беспокоить нас ими, так как, когда вы говорите, мы вас не понимаем».
Другая стадия знакомства со способностями китайцев к непониманию достигалась тогда, когда, несмотря на то, что отдельные слова понимались с достаточной ясностью, «благодаря некоторому пренебрежению частностями», мысль затуманивалась, если даже не совсем терялась.
К «таланту непонимания» Смит отнёс и отношение китайцев к деньгам. «Из всех предметов общечеловеческого значения в Китае больше всего нуждаются в ограждении от превратного понимания деньги, – отмечал наблюдательный англичанин. – Когда иностранец выдаёт это благо (что, с китайской точки зрения, часто кажется главным отправлением иностранцев), то нечто вроде будущего совершенного времени или вида является крайней необходимостью. „Когда вы окончите вашу работу, вы получите ваши деньги“. Но в китайском языке нет такого оборота, как вообще в нем нет никаких времён. Китаец просто говорит: „Делай работу, получи деньги“. Последняя часть фразы содержит главную мысль, которая и остаётся у него в голове, обозначение же известного отношения ко времени отсутствует. Поэтому, когда китаец делает что-нибудь для иностранца, то он хочет получить деньги тотчас же, для того чтобы он мог „есть“, исходя из того предположения, что если бы он не наткнулся на работу иностранца, то он никогда бы больше не ел! Повторяем, ценой только вечной бдительности может быть куплено в Китае избежание недоразумений в денежных вопросах. Кто должен и кто не должен получить деньги, в какое время, в каком количестве… Если дело касается контракта, по которому подрядчик, компрадор или лодочник должны, со своей стороны, сделать что-нибудь или доставить какие-нибудь вещи, то никакое количество предварительной точности и определённости при объяснениях не будет излишним».
Концепция лицаВо взаимоотношениях китайцев преобладала форма над содержанием. Конфуцианство, воздействуя на сознание многих поколений китайцев, акцентировало основное внимание не на внутреннем состоянии и чувствах человека в каждом конкретном случае, а на том, что ты обязан говорить и как действовать в данной ситуации, если она сложилась в соответствии с тем местом, которое ты занимаешь в социальной иерархии и характерными для неё нормами поведения. Эта особенность поведения китайцев была связана с так называемой «концепцией лица», ещё одной психологической характеристикой нации.
«Потерять лицо» – специфически китайский термин – означало сознаться в своей неправоте, утратить честь, чего китаец никогда не сделает даже при очевидной от этого выгоде.
Для того чтобы иметь хотя бы самое несовершенное представление о том, что понимается под словом «лицо», следовало принять во внимание тот факт, что китайцы как раса обладали сильным драматическим инстинктом, пояснял Смит. Театр можно было назвать почти единственным китайским национальным развлечением, и китайцы питали к театральным представлениям такую же страсть, которая отмечалась у англичан к атлетическим играм или же у испанцев к бою быков. Достаточно было самого ничтожного повода, чтобы китаец мнил себя в роли драматического актёра. Осанка его принимала театральный вид, он бросался на колени, падал ниц и бил головой о землю при таких обстоятельствах, которые в глазах обитателей Запада делали подобные действия излишними, чтобы не сказать смешными. Китаец думал театральными терминами. Но при этом всегда следовало помнить, что все это не имело никакого реального значения. Вопрос никогда не касался фактов, а всегда лишь формы.
Совершать надлежащим образом подобные действия при всех вообще возможных сложных обстоятельствах жизни значило иметь «лицо»; не соблюдать их, не знать их или же совершить ошибку при совершении этих действий значило «терять лицо». «Лицо» оказывалось ключом к сложному замку, соединявшему в своих пружинах многие из важнейших характерных черт китайцев. Необходимо прибавить, что принципы, регулировавшие само «лицо», и достижение его часто были совершенно недоступны пониманию европейца, постоянно забывавшего о театральном элементе и ударявшегося в безразличную область фактов.
Сознаться в каком-нибудь проступке значило «потерять лицо», поэтому, чтобы «спасти лицо», надо было непременно отрицать факт проступка, несмотря на всю его очевидность.
Но слово «лицо» не обозначало в Китае просто одну только переднюю часть головы. Оно являлось очень сложным термином, выражавшим множество понятий – больше, чем иностранцы были в состоянии описать или, быть может, даже понять.
Поэтому реакция китайцев на то или иное событие отвечала ожидаемым от них действиям со стороны окружающих; в их поведении прослеживались определённая искусственность и стремление «достойно» выглядеть.
«Уничтожить оппонента – не значит доказать его вину, – гласит китайская мудрость. – Надо заставить его „потерять лицо“». И если враг переживёт позор отречения, все равно от кого (близких людей, вождей и т. д.) или от чего (взглядов, идей и т. д.), с ним тогда можно будет делать всё, что угодно. Полицейские гоминьдановского режима, арестовывавшие коммунистов, как правило, предлагали им выбор: или смерть, или публичное отречение. И отпускали пленника, если тот выбирал последнее (не важно, какому физическому воздействию он до этого подвергался). Обычно отречению сопутствовало предательство своих бывших товарищей (хотя, по сути, отречение и есть предательство). Однако не только предательство важно было для китайской полиции, а «потеря лица» арестованным. Многих раскаявшихся коммунистов даже брали затем на работу, более того – поручали им исключительно ответственные посты. Все знали: опозоривший себя человек будет преданно служить тому, кто заставил его «потерять лицо».

