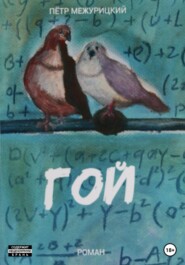скачать книгу бесплатно
Иосиф Джугашвили немедленно согласился.
«Какой чудесный грузин», – подумал и даже чуть не сказал вслух Ленин.
9.
Да, здесь, в Вене, тридцатитрехлетний Джугашвили сочинял судьбоносную для себя и всего мира статью, названную по рекомендации Ленина «Марксизм и национальный вопрос». Опубликованная под псевдонимом Сталин в том же, 1913 году, она тут же стала хитом сезона в социалистических кругах Российской империи. Имя Сталина приобрело известность. Еще бы! Национальный вопрос и особенно еврейская тема были в головах и душах буквально всех российских подданных. О евреях с пристрастием писали главнейшие российские публицисты и философы Владимир Соловьев и Василий Розанов, а Константин Николаевич Леонтьев прямо так и говорил: «Не надо забывать, что антихрист должен быть еврей, что нигде нет такого множества евреев, как в России». Тем самым убийство евреев вплоть до младенцев объявлялось добрым делом. В самом деле, разве может быть что-нибудь лучше для человечества, чем убийство антихриста прямо во младенчестве?
И вдруг какой-то Сталин, русский крайне левый социалист, пишет статью с таким интригующим названием. Подумать только! Сам Карл Маркс, будучи крещеным европейцем еврейского происхождения, ничего хорошего о народе, выходцем из которого был, конечно же, не сказал. А как можно было рассчитывать на хоть какой-нибудь успех в европейской культуре, хорошо отзываясь о евреях? Зачем же заведомо обрекать на неуспех собственное учение? И Маркс объявил евреев главными виновниками возникновения столь ненавистного ему капитализма, самой страшной, по его мнению, формой угнетения простых немцев, французов, англичан и даже экономически недоразвитых пока что славян.
Сталин знал цену своей статьи и не сомневался, что по-настоящему образованные люди тоже ей цену знают. А цена эта суть грош в базарный день. Особенно тяжелую пощечину он получил от самовлюбленного Троцкого, жившего тут же, в Вене. Сталин зашел к сотруднику газеты «Правда», снимавшего крохотную квартирку в получасе ходьбы от площади Хальденплац. Тут он неожиданно для себя и застал Троцкого, в чьи планы встреча со Сталиным тоже не входила. Так впервые и повстречались эти люди, словно созданные для того, чтобы на веки веков остаться в памяти человечества абсолютными антиподами. Они в упор уставились один на другого, мрачный и рябой кавказец с тяжелым взглядом и светлоликий, похожий на подающего самые большие надежды студента, еврей.
– Старик познакомил меня с рукописью вашей работы о национальном вопросе, – счел нужным сказать Троцкий. – Вижу, что вы добросовестно проштудировали Каутского и Бауэра. Поздравляю! Поскольку большинство наших практикующих революционеров ни Каутского, ни Бауэра никогда не открывали и никогда не откроют, они сочтут вас главным теоретиком партии по национальному вопросу.
Выражение лица Джугашвили не изменилось, хотя он с удовольствием отметил для себя самое главное: легко разоблачив плагиат и тем вполне удовлетворив свое авторские тщеславие, Троцкий проглядел действительную суть работы. Выглядеть в глазах Троцкого десятистепенным теоретиком Джугашвили ничуть не боялся. Пускай Троцкий считает себя первостепеннейшим, каковым и был, Иосифа Джугашвили это ничуть не смущало. Важно было, чтобы и впредь, видя очевидную заурядность в любой деятельности Сталина, Троцкий не обращал внимания на суть этой деятельности, в которой заключалась такая сила, какую этот, радостно брызжущий во все стороны сиянием своего неотразимого интеллектуального обаяния, еврей когда-нибудь ощутит, да будет для него уже поздно.
– Благодарю за содержательную рецензию, – раскланиваясь, не спеша произнес будущий Сталин и, выйдя из квартирки соратника по революционной борьбе, которого он на беду того никогда не забудет, направился в сторону площади Хальденплац. Ему неудержимо захотелось постоять перед дворцом Хофбург, с балкона которого через двадцать пять лет фюрер и главнокомандующий вооруженными силами Германии Адольф Гитлер объявит о присоединении своей родины Австрии, в которой он никем, кроме как уличным художником, не стал, к стране, в которой он стал всем.
«Кто был ничем, тот станет всем», – подумал Сталин строчкой из будущего гимна страны, лицом и именем которой он, несомненно, станет. – Умеют же поэты сказать».
10.
Джугашвили и Гитлер ожидали в приемной. Они чувствовали, что все приготовления в кабинете ритуалов уже завершены, но понимали, почему Венский Сефард медлит с приглашением одного из них приступать к таинству очищения предмета гардероба. Они сами были под впечатлением того, что судьба свела их в один час в этом месте. Это не могло быть случайностью, потому что тогда надо было бы признать случайностью то, что именно этим людям, на данный момент и близко не состоявшим на государственной службе и никогда не служившими в армии, хотя одному было уже хорошо за двадцать, а другому и за все тридцать, суждено будет в качестве главнокомандующих самыми могучими армиями Европы захватить Вену.
Уж слишком неправдоподобным это сейчас выглядело. Но все трое, похоже, уже знали, что иначе и быть не может. Будущий генсек даже внутренне посочувствовал будущему фюреру. Мол, каково ему знать, до чего он в конце концов доиграется, и кто сейчас сидит рядом с ним. «Впрочем, он еще пожнет хорошую жатву, – подумал Джугашвили, – которая и приведет меня к победе над ним. Всякая страсть есть дорога в ад, а я уж с церковью как-нибудь помирюсь».
А Гитлер вспоминал сейчас о том, зачем и почему он столь судьбоносно для себя и для них люто возненавидел евреев, причем ненавистью не бытовой, но метафизической. Ведь он хорошо относился к евреям. Да чего там, лучшего защитника у евреев не было, чему порукой был природный гуманизм Гитлера. Сначала природный, а потом уже и культурный.
Гуманистом Гитлер и оставался до самого своего конца, потому что не видел никакой необходимости, по странной рекомендации славянского писателя Антона Чехова, по капле выдавливать из себя гуманиста. О Чехове он узнал от Геббельса, который называл Чехова жидовствущим, в отличие от Достоевского. Геббельс иногда преувеличивал, что порой могло дискредитировать борьбу, которую Гитлер называл «Моя борьба».
– Конечно, – выговаривал он в таких случаях Геббельсу, – чужая борьба не своя, с ней можно особо не заморачиваться.
Геббельс шутливого тона не принимал, вытягивался, словно он рядовее всех рядовых, и отчеканивал:
– Ваша борьба – это моя борьба!
И Гитлер знал, что с тех пор, как Геббельс выбрал между ним и Штрассером, это действительно так. Идейные мотивы художественного творчества Чехова по наводке Геббельса подвергли тем не менее самому тщательному экспертному анализу. После годичного исследования Специальное научное присутствие семью голосами против четырех утвердило Вердикт, согласно которому славянский писатель признавался скорее антисемитствующим, чем жидовствующим. Книги Чехова решено было не сжигать, но к широкому распространению не рекомендовать до дальнейшего обязательного пересмотра дела в течение ближайших пятидесяти лет, ибо национал-социалистическое литературоведение не должно закостеневать.
Однако до знакомства с германским университетским интеллектуалом австрийскому маргиналу без признаков формального образования Гитлеру было еще далеко. Он с презрением смотрел на венскую антисемитскую прессу, находя, что своей убогостью она оскорбляет немецкие душу и ум. Его собственные душа и ум, будучи несомненно немецкими, тянулись к самому возвышенному и одновременно глубокому. Но эти уровни германской культуры расстраивали будущего фюрера едва ли не более, чем желтая пресса. Артур Шопенгауэр утверждал, что «евреи являются величайшими виртуозами лжи» и был прямо-таки вдохновенным певцом антисемитизма, а Фридрих Ницше заявлял буквально следующее: «Антисемитов нужно расстреливать».
Гитлер понимал, что любого философа власть может поправить, особенно когда его уже нет в живых, но пока еще не решил, в каком направлении следуют проводить работу по исправлению идейных недостатков лучших немецких философов, большинство из которых все-таки так или иначе были, подобно русским писателям, антисемитами. Это обстоятельство весьма сближало немецкую и славянскую культуры, с точки зрения все того же интеллектуала Геббельса, с которым Гитлер пока еще не был знаком.
Тем не менее славян Гитлер уже недолюбливал, а евреев – пока еще нет. Славяне и впрямь, с его точки, лишали Австро-Венгрию истинно немецкого национального духа, грозя и вовсе подменить немецкий дух славянским, в то время как евреи представлялись будущему фюреру в сущности теми же немцами, только не признающими Иисуса Христа Богом. В принципе Гитлер и сам считал эту еврейскую точку зрения вполне здравым взглядом на вещи. Воображать себе некоего Иисуса из Назарета хоть каким-то боком сопричастным к сотворению вселенной было, с его точки зрения, чем-то в высшей степени безответственным по отношению к здравому смыслу. Да будь так, евреев и впрямь было бы за что ненавидеть, потому что получалось бы, что человечество, пускай хотя бы частично, обязано им, шутка сказать, появлением на свет этого мира.
Что за дикая фантазия? Но ведь именно евреи ее и отвергают, за что ж их тогда ненавидеть? Гитлер легко соглашался считать евреев немцами Моисеева закона и ненависть к ним списывал на счет религиозной архаики. Сам он был человеком модерна, но шансов на карьеру это ему не давало. Сама мысль о том, чтобы стать депутатом Рейхсрата была ему отвратительна. В верхней палате, куда ему вообще не было доступа, заседали эрцгерцоги, архиепископы и представители землевладельческой аристократии – муть какая. Что касается нижней палаты, то в ней и вовсе правили бал социал-демократы и христианские социалисты, которых Гитлер одинаково ненавидел за прямое предательство интересов немцев.
Все эти разговоры про мультикультуру были, с его точки зрения, ничем иным, как стратегическим планом по уничтожению немецкого народа. Если сегодня в Австрии немецкая и славянская культура будут равноправны, то почему же завтра агрессивная славянская культура не подавит беззащитную и доверчивую немецкую? Или немец должен свято верить в мирные намеренья славян? Та же Россия начнет использовать австрийских славян для подавления немцев, развернет против Австрии гибридную войну, и исконно немецкие земли превратятся в славянские, да так, будто и духу немецкого здесь никогда не было, даже опомниться не успеешь. Или прикажете России доверять?
Как так вышло, что в Российской империи русские главные, а в Австрийская уже и по названию полуавтрийская, иначе говоря Австро-Венгрия. Это сегодня. А завтра – Австро-Венгро-Чехия, а послезавтра – Венско-Пражский край Российской империи. А главная беда заключается в том, что он, Гитлер, видя все это, как на духу, изменить ничего не может. До кого докричишься? До околоточного надзирателя? Вот Джугашвили состоит уже в руководстве партии, которая ставит своей задачей захват власти и ведет войну с правительством. А что из себя представляет он, Гитлер, одиночка из одиночек, у которого ни одного друга и который не то что не член ЦК, пускай и самой завалящей партии, но даже не рядовой член профсоюза работников хоть чего-нибудь.
Чудовищное существование мозга, который все понимает, но не в силах ничего изменить. «Я мельче главаря самой ничтожной банды, за которым все же стоит какая-никакая, а сила. А меня любой может обидеть. Что мне остается? Умереть в уличной драке, чтобы сохранить свою честь? Кто я такой? Глубоко презирающий себя художник, зарабатывающий на скудное, да и то не ежедневное пропитание изготовлением и продажей рисунков для удовлетворения самых примитивных эстетических потребностей низших слоев деградирующего мещанства? Кто внушил им эту эстетическую потребность, кто дал мне способность ее удовлетворять?».
Гитлер болезненно ощущал, что цель исторического процесса либо ускользает от его интеллекта, либо ее вовсе не существует. Но если не существует, это все равно ничего не меняет. Цель перед историей можно поставить и самому. Собственно, все более или менее стоящие люди, а за ними и народы – так и делают. Какая в самом деле разница для истории, сам ли Моисей поставил перед собой цель, или ему действительно внушило ее некое, прости господи, космосообразное существо? Чего только не пишут про астрал. Жулье, конечно, или психически больные люди, но если эти представления об астрале, или как его там, и впрямь дают реальную силу, что главарям мелких шаек, что королям, то разве не глупо этим астралом, или как его там, пренебрегать? И ради чего, собственно, пренебрегать? Ради некоей объективной истины? Ой, я вас прошу, вы меня извините.
И все же, будущий фюрер пребывал в сомнениях.
«А ты ведь не Гамлет», – услышал он голос. Адольф пришел в себя. Бывало, он словно отключался от действительности до такой степени, что вовсе не замечал ее. Но в какой-то момент обнаруживал себя в ней, иногда совершенно не понимая, как и почему оказался именно там, где оказался. Сейчас он обнаружил, что находится в Городском парке Вены перед памятником Антону Брукнеру. Гитлер недоверчиво оглядел этого композитора, органиста и педагога, благоговевшего перед Рихардом Вагнером. Музыка Вагнера впечатляла и Адольфа, хотя он никогда не слышал ее в хорошем исполнении. И опять же независимую натуру будущего фюрера покоробила несчастная слабость человеческая. Подумать только, великого Вагнера лишало душевного покоя то мелкое, практически бытовое обстоятельство, что молва приписывала его родителям еврейское происхождение. Не будем лицемерами и согласимся, что это может повредить карьере. Но когда ты поднялся на вершины человеческого духа, а твоя музыка стала чуть ли не символом подлинно национальной культуры, то какое же имеет для тебя значение происхождение твоих родителей, тем более, а что же такого плохого в еврейском происхождении, и как можно опускаться до расхожих воззрений.
Стало немного досадно за Вагнера, и вдруг будущий фюрер почувствовал, что он не случайно услышал голос, что не случайно находится сейчас именно на этом месте. Он поднял взгляд на Брукнера, но никакого видимого подтверждения своей догадки от памятника не получил. Однако чувство, будто дух Вагнера взывает к нему, не оставляло.
– Слыхал я, что люди бывают медиумами, но чтобы памятники, – вслух пошутил он. Брукнер оставался непроницаем, и Гитлер понял, что дело серьезнее, чем ему кажется.
– Но почему я? – снова вслух произнес он.
Дух Вагнера проигнорировал вопрос, и тогда будущий фюрер совершенно неожиданно для себя пообещал в пространство:
– Хорошо, сделаю! – и тут же, словно в награду, увидел перед собой Стену Плача в Иерусалиме и стоящего к ней спиной гиганта ростом с нее. Великан не был похож на еврея. Но и на римлянина или германца он тоже похож не был. «Где-то я его уже видел», – подумал Гитлер и тут же узнал фараона египетского.
Картинку с изображением Стены Плача и гигантом на ее фоне он на удивление легко продал следующим утром на блошином рынке какому-то еврею по цене в десятеро большей обычной.
Так он заработал на шляпу, обряд очищения которой уже готов был начать Венский Сефард. Деньги на приобретение пальто ссудила Джугашвили партия. Все-таки он уже был функционером.
11.
– Схлестнулись Сталин с Гитлером, а нам, Пиня, пипец, – между мощными взрывами двух новейших немецких противокатакомбных бомб успел сказать комбат Карась и прислушался. Бомбежка, похоже, прекратилась.
– Испытывают они, что ли, на нас свои новые вооружения?
– Испытывать на вас они будут в другом месте. А сейчас им до нас дела нет. Проверили, возьмут ли их новые противобункерные бомбы наши казематы, – объяснил старший политрук свое виденье ситуации.
– Хрен возьмут! – с проснувшейся гордостью отреагировал комбат Карась и уже мрачно продолжил: – Как же мы это так все просрали.
– А ты разве командующий?
– Каждый солдат заслуживает своих командующих, – не стал принимать комиссарского утешения командир.
Это был один из последних разговоров комбата Григория Карася и старшего политрука Пинхаса Натановича Свистуна.
– Отличная, между прочим, фамилия для советского политработника – Свистун, – заметил комбат. – Признайся, ты с ней нарочно в политруки подался?
– А как же, – не без удовольствия принял шутливый тон Пинхас Натанович. – И у тебя для героического комбата победоносной Красной Армии фамилия вполне подходящая – Карась. А что? Рыба, известная своими выдающимися боевыми качествами. Кто ходил на карася с голыми руками, тот знает. Но немцы, как видишь, пришли не с голыми.
– А все же, Пиня, как же это они нас отымели?
– Да как же им нас отыметь, Гриша, ты сам подумай. Ну, взяли они Севас, ну на Волгу пойдут, ну возьмут они Сталинград. Дальше что? На Челябинск пойдут? Нет, Гриша, это мы их в конце концов отымеем. Но чтобы до этого дожить, ты сегодня же должен сдаться в плен.
– А ты?
– А я уж лучше как-нибудь без вести пропаду. Или хочешь увидеть, как меня расстреляют на месте? Я ведь, Гриша, комиссар и еврей. Даже в документы не заглянут. Каждый второй, ну, хорошо-хорошо, каждый третий пленный боец нашей доблестной Красной армии посчитает за честь им на меня указать.
Комбат Карась опустил глаза.
Они укрылись в каземате уже взорванной 35-й береговой батареи, понимая, что или придется самим выйти, или на них очень скоро неизбежно наткнется поисково-исследовательская команда германской армейской разведки. Перебрались поближе к выходу. Немцев пока видно не было. Все плато Херсонеса, сколько хватало глаз, было усеяно разбитой техникой, на которой брошенные командованием десятки тысяч защитников Севаса предприняли последнюю попытку эвакуироваться.
Куда там! Наскоро построенный под бомбежками противника самодельный причал тут же провалился и ушел под воду, едва только на него сошли первые сотни беспорядочно отступавших красноармейцев. В плен уже почти никто не хотел. Если в сорок первом году, когда началась война, в плен все, кроме евреев, сдавались не без надежд на лучшую жизнь, то на второй год войны с этими мечтами пришлось распрощаться. Гитлеровские лагеря для славян оказались ничем не лучше сталинских и даже, по слухам, еще хуже. Правда, можно было заявить о своем желании перейти воевать на сторону Гитлера в его Русскую освободительную армию, как многие и поступали.
Многие, но уже далеко не все.
Военный корабль, героически прорвавшийся к самодельному, в отчаянье построенному оказавшимися в ловушке красноармейцами причалу, не смог и близко подойти к тому, что от него осталось. Капитан, в бессильной ярости от того, что он и его команда напрасно рисковали своими жизнями, пытаясь спасти этих людей, которых сейчас придется бросить на произвол их судьбы, дал команду отходить полным ходом на Новороссийск.
Было очевидно, что массовая сдача в плен завершена, и комбат со старшим политруком порадовались тому, что им удалось избежать участи стать свидетелями этой сцены. Не менее очевидным было и то, что уже недалек тот час, когда немцы раскроют их убежище.
– Отдай мне пистолет, комбат, – сказал старший политрук. – Он тебе больше не понадобится.
– Да? А немцам я что сдам? Только о себе думаешь, Пиня.
– Прости, Гриша, – почти серьезно извинился Пинхас Натанович и действительно посерьезнел. – Есть у меня к тебе просьба…
Он извлек из бокового кармана крохотный коробок, достал из него что-то, переложил в другую ладонь, а сам коробок, вздохнув, запустил куда подальше. Потом разжал кулак. На его ладони лежало полукольцо из пепельного цвета металла. Менее всего старший политрук ожидал, что удивит этим комбата, но совсем уж не ждал, что сейчас ему придется изумиться самому.
Некоторое время комбат, внезапно одеревенев, словно впал в транс под воздействием гипноза, смотрел на полукольцо. Потом с застывшим лицом, словно и впрямь во сне повторил все то, что проделал старший политрук. Результат был тот же. На его разжатой ладони лежало полукольцо из пепельного цвета металла.
12.
Лазарь Моисеевич Каганович ковал победу не только как высший руководитель страны по железнодорожному транспорту и член Государственного Комитета Обороны, но и как еврей. Иногда Лазарь Моисеевич даже позволял себе думать, что второе обстоятельство и есть истинно первое. Он вел рискованную игру и искренне был благодарен своим великорусским коллегам по руководству страной, за то, что лишь благодаря их поддержке он все еще жив. А их поддержка была далеко не предопределена. Дело в том, что этой столь чудовищной для России войны можно было реально избежать. И в том, что она все-таки разразилась, сказалось влияние Лазаря Моисеевича на ход исторического процесса.
Два года назад Сталин вызвал к себе на сверхсекретное совещание только тех, кто участвовал во главе с ним в принятии стратегических решений на уровне глобальной политики. Это были товарищи Молотов, Ворошилов, Маленков, Берия, Вознесенский, Микоян и Каганович.
– Речь, товарищи, пойдет вот о чем, – сказал Сталин и, тяжело вздохнув, умолк. Он уже давно никого и ничего не стеснялся, поэтому предположить, что он тянет с началом разговора по морально-этическим соображениям, было совершенно невозможно.
– Прошу вас, товарищи, как коммунистов, максимально активизировать свои интернациональные инстинкты и чувства, поскольку речь сейчас пойдет о войне, мире и еврейском вопросе.
Все посмотрели на Кагановича, а Каганович ощутил нечто непередаваемое, что казалось чем-то более важным, чем сам Сталин. Ему на миг показалось, что он физически не перенесет этого чувства, и тут же с неожиданной ясностью понял, что именно для этих минут появился на свет. И он перестал бояться, отчего пришел просто в ужас.
– Так что там о еврейском вопросе, товарищ Сталин? – спросил он.
Тут уж и Сталин своим ушам не поверил. Его действительно перебили, да еще при свидетелях? И как иногда бывает в таких случаях, дерзость одного раскрепостила всех.
– Не тяни, Коба, что там про евреев? – словно перенесясь в те времена, когда Сталин не был великим кормчим, а сам он маршалом Советского Союза, на правах старого боевого друга поинтересовался Климент Ворошилов.
«Это уже становится похоже на государственный катаклизм первой степени, – подумал Берия, еще больше сосредоточиваясь на происходящем. – Когда царь лично поднимает еврейский вопрос – это всегда государственный катаклизм первой степени».
– У нас есть шанс избежать большой войны и сохранить мир с гитлеровской Германией, полюбовно решив с ней вопросы расширения жизненного пространства, как это называют они, и воссоединения братских народов, как это называем мы, – принялся детально обрисовывать ситуацию Сталин. – Да и вообще мы с фашистами очень похожи, если кто еще не заметил. Между нашими режимами осталась лишь одна разница, а именно, как вы уже поняли, отношение к евреям. Предлагаю высказываться. Высказывайтесь, товарищ Вознесенский.
– Так, может быть, в наших интересах сохранить эту разницу, – словно сам с собой, принялся размышлять вслух Вознесенский, – а то народы мира могут подумать так: у нас уже есть гитлеровская Германия, зачем нам еще Советский Союз?
После этих слов все высказались за сохранение разницы.
– Так, – выслушав соратников, задумчиво сказал Сталин, – а вот какое предложение поступило мне от Гитлера по каналам, о которых даже товарищ Берия и слыхом не слыхал.
Сталин подошел к главному сейфу страны, который стоял в углу его кабинета. О том, что хранилось в этом сейфе, не знал никто в мире. Загородив спиной сейф, Сталин неторопливо открыл его, что-то извлек, положил это на сейф и так же неторопливо, продолжая загораживать собой дверь, запер ее. Когда он повернулся лицом к собравшимся, в руках он держал пакет, вид которого не вызывал никаких сомнений в том, что он государственной важности.
– Не все вам будет понятно, но я прочитаю как есть, – предупредил вождь и извлек из уже распечатанного пакета лист нелинованной бумаги. – Все готовы? Тогда слушайте.
Сталин остался стоять, приблизил послание к глазам и принялся читать:
«Уважаемый коллега, вы, конечно, не забыли нашей удивительной встречи в Вене четверть века тому назад. Мир с той поры разительно переменился, и не в последнюю очередь благодаря нам с вами. Россию и Германию не узнать. И у наших стран есть историческая возможность сохранить мир между собой, если мы придем с вами к согласию. Предлагаю поделить Евразию на две части, причем большая – от Карпатских гор до Тихого океана – остается за вами при условии, что задачу тотального искоренения еврейства на ней вы берете на себя. Не затягивайте с ответом, сами понимаете, что время близко,
искренне Ваш фюрер,
Адольф Гитлер».
Сталин оторвал глаза от бумаги:
– Что скажешь, Лазарь? Прошу тебя, ответь честно, как коммунист коммунисту.
– А я вот что скажу, Иосиф, – не стал затягивать с ответом Каганович, словно он заранее знал, о чем пойдет речь. – Ты ведь учился в семинарии и, надеюсь, еще не забыл Священную историю, в частности то, чем кончались для государств попытки уничтожения евреев. Ни сам Гитлер, ни его Германия хорошо не кончат. Но, предположим, что я это говорю, как еврей. Теперь скажу, как член Политбюро ЦК ВКП(б) и народный комиссар путей сообщения, да еще и нефтяной промышленности…
– Вот это уже интересно, – подал реплику Сталин.
– Да, интересно, – не стал спорить Каганович и продолжил: – Так вот, Гитлер изгнал евреев из физики и искусства, но в Германии остались и физика, и лирика, а если ты изгонишь евреев из физики и лирики, то в России ни физики, ни даже лирики не останется.
– Ну, лирика, положим, останется, – задумчиво возразил Сталин. – Однако Германия без евреев будет и впрямь посильнее, чем мы без евреев, а вот мы с евреями, возможно, будем и посильнее, чем Германия без евреев. Как думаете, товарищи?
– Не торопись, Иосиф.
Сталин грозно и вопросительно посмотрел на Кагановича.
– Разрешите внести предложение, товарищ Сталин.
– Так-то лучше, – сказал вождь. – Вноси.
– Товарищ Сталин, тут нас собралось восемь человек вместе с вами, из них четверо, то есть вы, я, товарищи Микоян и Берия, не русские, а речь все-таки о России идет. Может быть, поступим так, раз уж столь остро встал с подачи Гитлера национальный вопрос – пускай русские, то есть товарищи Маленков, Ворошилов, Молотов и Вознесенский, сами решают, а мы так и быть помолчим. По-моему, это будет правильно.
– Интересное предложение, – не раздумывая, отреагировал Сталин. – Не знаю, может быть, ты и хитришь, Лазарь, но все равно любопытно.
Верховный вождь советских людей вложил послание Гитлера в пакет, запер его в сейфе и, жестом поманив за собой всех не русских, пошел прочь из кабинета. В дверях обернулся:
– Ждем вашего вердикта, наши славянские соратники, а мы тут в приемной чаек попьем, думаю, что товарищ Поскребышев это дело организует.
13.
То, что полукольца в их семьях передавались из поколения в поколение, им друг другу объяснять было не надо.
– Я слышал, – сказал комбат, что эти полукольца время от времени должны соединяться в руках одного человека, который, в свою очередь, вновь разъединит половинки, отдав их разным людям только по ему одному ведомому мотиву. Так оно и идет по кругу. И вот, значит, они опять соединились.
– Несколько неожиданно, – сдерживая себя от проявления эмоций в связи с, возможно, историческим событием, сухо констатировал старший политрук. – Я собирался просить тебя, чтобы ты отдал полукольцо, когда с войны вернешься, моему сыну, а тут такое. Кстати, моих сына и дочь эвакуировали из Южной Пальмиры, а твоего, я слышал, оставили.
– Как слышал? – ужаснулся комбат. – Кто еще слышал?