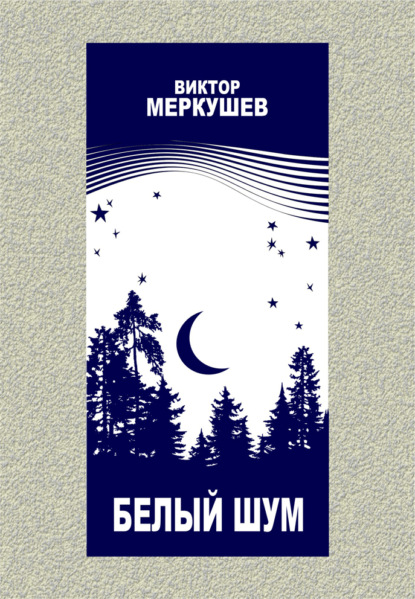
Полная версия:
Белый шум
Можно подумать, что это воплощённая грёза из фантазий своенравного Пиранези или тревожное предостережение Шиллинговского, провиденное Фельтеном и воссозданное им в камне. Но нет. Это единственный в своём роде храм отверженным и затерянным во времени поэтам и художникам, прорицателям и героям, подвижникам и первооткрывателям. Там время спрессовано и бесцветно, словно гудрон, а все события и имена сплелись воедино в пронизанный мхами и лишайниками почвенный наст, покрывающий часть стен этого храма, увенчанного невесомым навершием в виде изящной короны.
Остановись, прохожий, возле этого храма и произнеси своё имя. Ты ведь тоже его невольный прихожанин, ибо всему и вся надлежит забвение, какие бы фанфары сейчас не звучали в твою честь. А если ты просто скромный наблюдатель нашего подлунного мира, то тоже не забудь поведать о себе вечности, поскольку она не разбирает людей по делам и заслугам, а просто безучастно расставляет всех рядом. Постой здесь и иди дальше своим путём, избранным собственным волением и пониманием бытийных смыслов. Но знай, какими бы путями ты ни шёл, всё равно дорога приведёт тебя сюда, во мрак стрельчатых проёмов, где тебе случится соединиться с тишиной и тенью, в которой некогда сможет отдохнуть и перевести дух случайный прохожий.
Ноумен человека
Меняя звенья эволюции и перенастраивая среду, Создатель явил человека, наделив его разумом, волей и чувственным восприятием. Разобраться в том, как человек устроен, необычайно сложно, ещё сложнее понять, зачем Творцу понадобилась столь сложноустроенная сущность. Ведь практически каждый из нас наделён чудесным даром познания и созидания, вкупе со способностью к совершенствованию этого бесценного дара. Но в повседневной жизни эта дарованная искра Божья оказывается бесполезной или даже лишней.
А может, этот дар вообще случился из иного источника? Писал же некогда Пушкин: «Чёрт догадал меня родиться в России с душой и талантом…» Хотя поэт здесь немного погорячился, поскольку – в России, не в России – особенного значения не имеет. Да и талант с душою – есть у всякого, разве что не всякий пытается за счёт «души и таланта» жить. Однако ответа, зачем человеку это очевидное отягощение, поэт так и не даёт.
За Пушкина догадывать мы не будем, остановимся на очевидном. Да, человек нечасто раскрывает свой замечательный дар постижения и преобразования окружающего мира. Возможно, ему мешает детерминированная социальная конструкция или же предопределения Мироздания расставлены так, чтобы этот путь реализации природного дара человека был для него закрыт. И всё обустроено так, чтобы личностный потенциал реализовывался в сложном характере общественных отношений, как на низовом уровне семейно-родовых групп, так и на самом высоком – в сообществах народов и государств.
Если принять такое положение вещей, то весь процесс человеческого бытия видится под очень странным углом, совсем не предусмотренным для нашего зрения. И тут опять можно вспомнить Пушкина, вернее, его героя, воссозданного Модестом Чайковским в опере «Пиковая дама». «Что наша жизнь – игра», – проникновенно пел главный герой в знаменитой опере. Игра? Ну а почему бы и нет. Вот только непонятно чья, если, конечно, не брать в расчёт расклады карточного стола. Уж верно, что не Германа и ему подобных, то есть всех нас.
Пифагорейские эмпирии
Пифагор утверждал, что всему сущему соответствует число. Согласно теории античного учёного числа управляют человеческими судьбами и скрывают тайны вещей и событий. Но если отвлечься от абстрактных рассуждений о числах и обратиться к конкретике, то тоже можно сделать весьма интересные наблюдения. Например, когда количество людей вокруг вас превышает некую критическую величину, на вас попросту перестают обращать внимание. В городской толпе вы и вовсе становитесь невидимкой для окружающих, зато вас, перешедших в иное числовое измерение сверхмалых величин, начинают замечать сущности, со схожим количественным индексом. И вот тогда вы и обнаруживаете, что в городе много дикорастущих трав и цветов, до которых, как и до вас, никому нет никакого дела. Что ветер гоняет по асфальту прошлогодние листья, которые не успели вовремя замести дворники. Что берега рек и каналов подёрнулись сине-зелёной взвесью микроскопических водорослей, бороться с которыми бесполезно в силу наличия у них числовой константы, определяющей срок их недолгой жизни. Что к вечеру в городе зажжётся счётное число фонарей, из которых наблюдаемы могут быть лишь немногие, находящиеся в отмерянном для вас числовом диапазоне. Но всё это очарование ранее незамечаемым исчезнет, когда вы вновь явите свою числовую значимость, став единичкой в многомиллионном человеческом множестве.
Какими же мудрыми всё-таки были индусы, обогатив теорию чисел Пифагора в первых веках новой эры спасительной и прекрасной добавкой – чистым, свободным и бесподобным нулём! «Единица – вздор, единица – ноль», – утверждал Маяковский. Неправ классик: ноль – это совсем другое! Ноль – это чистое созерцание, благостное пространство нирваны, для которой предписано именно такое неуловимое числовое значение. Да и убедиться в этом несложно: надо просто выйти на улицу и раствориться в городской суете.
«Он двух стихий жилец угрюмый»
Тот, кому подолгу случается смотреть на небо, становится невольным причастником этого воздушного океана. Когда человек оказывается не в состоянии вместить в земной мир своей дерзкой мечты, желанной свободы или безмерного чувства, мир становится ему тесен, и взоры человека обращаются к небу. «Один я здесь, как царь воздушный», – писал Лермонтов, мысленно устремляясь вслед за «тучками небесными, вечными странниками». Ему, которому даже было «тягостно земное счастье», презиравшему всё случайное и преходящее, искренне верилось, что подлинностью и совершенством обладают лишь звёзды в небесной пустыне, подвластной и внемлющей всесильному Богу. «Только завидую звёздам прекрасным, только их место занять бы хотел». «Признака небес» Лермонтов искал повсюду, и небеса неизменно отвечали ему, одаривая его «лавой вдохновенья», чтобы поэт смог создать «иной мир», неземной по своей сути, явив «образов иных существованье».
Но нельзя сказать, что «скучные песни земли» совершенно не находили ответного отклика в душе Лермонтова.
…Бывает время,Когда забот спадает бремя,Дни вдохновенного труда,Когда и ум, и сердце полны,И рифмы дружные, как волны,Журча, одна вослед другой,Несутся вольной чередой.Восходит чудное светилоВ душе проснувшейся едва:На мысли, дышащие силой,Как жемчуг, нижутся слова…Тогда с отвагою свободнойПоэт на будущность глядит,И мир мечтою благороднойПред ним очищен и обмыт.Однако в русской поэзии, вслед за таким земным и вовлечённым во все земные дела Пушкиным, Лермонтов остался поэтом, для которого «небо и звёзды» значили, пожалуй, больше, нежели «желтеющая нива» или шумящий от ветерка «свежий лес». «Он двух стихий жилец угрюмый», – строчкой этого известного лермонтовского стихотворения можно было бы охарактеризовать и его самого. Поэтому Пушкин – наш великий национальный поэт, а Лермонтов более сопричастен нашему общему Мирозданью, нежели России и её народу.
Этюды белой ночи
В молодости я не прятался от белой ночи за тяжёлыми шторами, а шёл с этюдником в притихший и уставший от дневной жары город в надежде собрать её неверные сумеречные лучи в свой небольшой холст. И я не могу припомнить случая, чтобы бессонная ночь не подарила мне какой-нибудь интересный сюжет, придуманный ею специально для бродячих мечтателей, художников и фантазёров. Где бы я ни оказался: на Васильевском, в Коломне или на Петроградке, мне на глаза попадались вещи, невстречаемые прежде и несуществующие в дневной жизни. В опустевшем ночном городе я мог наблюдать длинные перспективы улиц, рек и каналов, увенчанных какой-нибудь изысканной доминантой, которая только в сиянии белой ночи становилась значимой и заметной. Неизвестно почему и невесть откуда, в пустых дворах обнаруживались декоративные вазы и маленькие фонтанчики, а узорчатые чугунные ограды, вопреки своему предназначению, вели меня в благоухающие скверы, полные кустов шиповника и цветущей сирени.
Пожалуй, из-за большого множества впечатлений, прежние образы местами поистёрлись и заметно потускнели, превратившись в смутные безличные реминисценции. Зато картины, написанные в соавторстве с белой ночью, я хорошо помню, и в душе моей они, как и прежде, рождают светлое и волнующее чувство. Стоит только сосредоточиться, отпустить воображение и вновь в моей памяти оживают их краски и запечатлённые на холсте формы.
Время этими работами распорядилось по-своему. Надеюсь, что они ещё где-то существуют и радуют их владельцев чудесными откровениями белой ночи, загадочной и фантастмагоричной, которая бывает только у нас, на берегах Невы. И наверное оттого, что я теперь спрятался от неё за тяжёлыми шторами, белая ночь мучит меня бессонницей и недужными грёзами, поскольку есть у неё ещё для меня немало тайн и интересных сюжетов. Либо зовёт меня туда, обратно, чтоб я смог вновь прикоснуться душою к тем отрадным пространствам и временам, где «фонтаны били голубые и розы красные росли»…
Без пяти двенадцать
Неизвестно зачем и почему моя память бережно хранит в своей оперативной доступности новогоднюю ёлку из детства, наряженную улыбчивыми снеговиками, мерцающими снежинками, расписными сосульками и стеклянными шарами, увитую цветным серпантином и усыпанную чуткой шелестящей мишурой.
И из всех её удивительных украшений мне более всего помнятся маленькие часики из тончайшего стекла с серебряным циферблатом и нарисованными на нём стрелками, указывающими без пяти двенадцать. Эти часики и раньше поражали меня своей хрупкостью и каким-то невыразимым ощущением тайны, словно именно в них были сокрыты все парадоксы времени и магические силы, управляющие судьбой. Я верил, что им известны все грядущие даты, все рубежные сроки и назначенные кануны, и, кроме того, они обязывали меня спешить, ибо отвели мне совсем немного времени до завершения предписанного ими дела, которому уже было отдано немало сил и которое давно ожидало своего завершения.
Я не знаю, куда подевались эти часы. Но я очень тревожусь за их сохранность. Пусть стрелки на роковом украшении и обозначают краткий временной интервал, и, казалось бы, этими минутами можно было бы беспрепятственно пренебречь, но ведь это же совершенно иное измерение времени, непосредственно связанное с пространством мечты и полем желаний, которым по воле чудодейственного новогоднего торжества обещано воплотиться в будущем. А если это не так, то тогда зачем придуман весь этот праздник чаемых ожиданий и больших надежд.
И я по-прежнему продолжаю верить, что все наши задуманные желания исполнятся, если только, конечно, не разобьются хрупкие ёлочные часы с нарисованными на них судьбоносными стрелками.
«Так нечего её вам и читати!»
Моя бабушка старалась оберегать меня от ненужного чтения, убеждая, что в этом деле ещё строже следует соблюдать личную гигиену, чем в вопросах питания или ухода за телом. Когда я брал в руки очередную бесполезную книжку, которую она, в лучшем случае, считала жвачкой для зрения, я неизменно выслушивал рекомендацию её гимназического наставника, отца Евстафия: «Читали ли вы эту книгу? Читали?! Так нечего её вам и читати! А читали ли вы эту книгу? Нет? Так нечего её вам и читати!»
Честно говоря, если бы я некогда в стенах учебного заведения выслушал подобное наставление, да ещё и произнесённое хорошо поставленным голосом, уходящим в напевный речитатив, то я тоже бы его навсегда запомнил. Но всё понимая и осознавая мудрость бабушкиного наставника, я всё равно почему-то не прекращал вредоносного чтения. Оттого в своём классе я, пожалуй, был самым посвящённым в легковесную беллетристику, и все школьные сочинения писал исключительно на свободные темы. Но восторгов от моей «начитанности» мои учителя не испытывали. Наверное, им тоже хотелось бы сказать мне нечто в духе отца Евстафия, но звание учителя литературы этого сделать не позволяло.
В институте я был дружен со своим сокурсником Ваней, отец которого, известный художник, запрещал сыну прикасаться к классическим образцам и нагружал его память разного рода модернистской чепухой. Ваня в совершенстве знал всякого третьестепенного живописца и мог рассказать о любых ухищрениях и хитрых творческих приёмах, позволявшим даже не осенённым божественным даром художникам пробиться в стан знаменитостей, включив своё имя в искусствоведческий кондуит. Но сам Ваня писал исключительно в академической манере и затыкал уши, когда педагоги рассказывали про какой-нибудь круглый или покатый квадрат.
Надо сказать, что я тоже со временем перестал прикасаться к своей личной библиотеке, предпочитая брать книги в Публичке. А если мне всё-таки случалось вернуться к своему прежнему увлечению, то я, открывая книгу, будто бы не узнавал ни одной буквы и запутывался в первом же абзаце. Но стараясь вникнуть в прочитанное, я вновь и вновь возвращался к начальной буквице, точно катил в гору сизифов камень и не мог его удержать. Он вертляво вихлял в поиске надёжной смысловой почвы и обычно уже на третьей строчке неотвратимо грохотал вниз.
Что тут поделаешь? Гигиена – очень хорошая вещь, но добиться стойкого иммунитета её соблюдением практически невозможно. Надо просто переболеть от её несоблюдения. И тогда мы сможем обрести независимость не только от вредных привычек, но и от своего прошлого, счастливо пребывая в душевном равновесии и подобающей чистоте.
Дух живёт там, где пожелает
А дух дышит, где хочет, приходит и уходит туда, куда пожелает… Сколько бы я ни пробовал читать канонические тексты – всё напрасно! Сосредоточиться не получается, мысль повествования постоянно уходит, оставляя прочитанное без осмысления. Ничего не могу с собой поделать: если не понимаю, каким образом это касается лично меня, моё сознание отключается, и я просто внутренне проговариваю слова, не находя между ними никакой связи. Или напротив: вдруг прочитанное оборачивается волшебной картинкой, и фантазия увлекает меня туда, куда ведёт разбуженное воображение. Там всё другое, без скорбной плоти земли и без её опутывающей гравитации. Там небо в заливках голубой акварели, возле стеклянного моря картонные домики и деревья из подкрашенной ваты, а чуть поодаль – горы из папье-маше. Я там тоже не настоящий, хотя тот же, но только свободный от прошлого и будущего, и лишь формально связанный с настоящим. Удержаться в этом пространстве воображения сложно, поскольку постоянно выпадаешь из выстроенной чудесной реальности, и только усилием воли вновь оказываешься там опять, где можешь беззаботно бродить по придуманным берегам и нежиться под подвешенным на ниточке солнцем из кровельной жести.
Мои друзья в своих неудачах обычно ищут моего сочувствия и поддержки, тяжело переживая свои промахи и поражения. Порой даже идут за советом к психологам, которые охотно ободряют их деланным участием и дают банальные и предсказуемые рекомендации. Меня же, когда я им предлагаю ключи от спасительного для них мира, воспринимают с недоверием. Но если страдает дух, а не тело, то и следует непосредственно обращаться к нему. Ведь он – свободен, он не чувствует времени и тесные чертоги Мироздания для него преодолимы. Если разобраться, то все причины и следствия, все отягощения жизни не имеют к нему никакого отношения. Они существуют где-то там, где тяжёлой атмосферой нависает над человеком небо, где возле сурового моря толпятся громоздкие строения из холодного камня, где растут могучие деревья, рядом с которыми человек ощущает себя хрупким и уязвимым, где высятся громадные горы и где светит палящее солнце… Из этого мира человеку не вырваться никогда, если смотреть себе под ноги и следовать принуждению сторонней воли и чужого слова. А дух витает там, где пожелает. И для него нет ничего лучшего, чем то, что создано им самим. И только в нём заключена жизнь и воплощён дар творения, а не в том, что его связывает и отягощает.
Нынче нам не до стихов!
– Поскольку здесь другого нет
Я лучший в прериях поэт!
И рифму подобрать готов. – рекомендовался лихой ковбой из старого вестерна соратнице по переделке, в которую они попали. Однако спутница слушать поэзию не стала и оборвала вдохновенного поэта на полуслове, закончив куплет за него:
– Но нынче нам не до стихов!
Слова боевой подруги ковбоя сбили меня с толку, и я уже не помню, чем закончилась их история. Я думал, ладно, допустим в данном случае, действительно, не до стихов, ну а когда же до стихов? Всё-таки на момент просмотра фильма у меня уже опыт какой-никакой был, и я прекрасно помнил, как товарищи начинали недовольно галдеть, если мне удавалось зачесть что-нибудь из рифмованного. А те, кто хорошо знал о моих повадках, сразу же предупреждали, что ладно уж, говори, но исключительно привычной разговорной речью. Случалось, правда, что иногда по неосторожности меня допускали до личного общения, но после прослушивания какой-либо балладки, которых я знал неимоверное количество, любые контакты со мной тут же прекращались.
Время шло, я разучивал всё больше и больше поэзии, но ситуация практически не менялась. Единственно, на что я мог рассчитывать, так это на выступление за новогодним столом, но и тут я был предварительно строго предупреждён, что стихотворение должно быть по теме и укладываться не более чем в два куплета.
Однажды, на одном из творческих вечеров, мне случилось познакомиться с настоящим поэтом, стишок которого я намедни прочёл в журнале и даже вызубрил наизусть. Публики было мало: я, школьница-пионерка да ещё два пенсионера, поэтому, можно сказать, моё общение с поэтом было почти приватным. Поэт, видно, имел у себя какой-то другой круг общения, совсем не такой как у меня, поэтому на все мои вопросы он отвечал не простой разговорной речью, а собственными стихами. И тут меня озарило! Я подумал, что наконец-то я нашёл благодарного слушателя, родного брата по музам, по судьбам, и теперь никто не сможет помешать нам говорить стихами! Помню, что в последнем своём вопросе я поинтересовался, сколько ему лет, на что поэт ответил мне объёмным венком сонетов про любознательность собственного сочинения. Тогда я и решил зачесть ему небольшую поэмку из журнала, где было напечатано его стихотворение. На лице у поэта сразу появилось скорбное выражение, которое я частенько наблюдал у своих товарищей, ненавидящих поэзию. Поэт, озлобившись, грубо оборвал меня той же фразой, которая была произнесена напарницей одинокого ковбоя.
– Нынче нам не до чужих стихов! – гневно проорал поэт и свернул творческий вечер к шумной радости двух оставшихся пенсионеров. Куда подевалась девочка-пионерка, я так и не понял. Очевидно, ей удалось улизнуть раньше.
Зной
Палящий зной лишал воздуха и не позволял сформироваться мысли, обращая сознание в состояние бурлящего хаоса, схожего, пожалуй, с первичной кварк-глюонной плазмой, в пене которой терялись все значимые привязки прежних помыслов и событий, и распадались на эфирную пыль присущие памяти абстрактные материи и привычные образы. Слова теряли смысл и обращались в какой-то низкочастотный шум, беспокоящий и лишающий элементарного узнавания.
Зной переворачивал всё не только у меня внутри, но и безжалостно менял среду, уничтожая любые структуры и формы. Дело даже не в том, что асфальт стал послушным как воск, а листья у клёнов и тополей стали сворачиваться в шелковистые свитки, – просто само пространство утратило определённость и былую фактуру, теряясь в текучем и вибрирующем мареве, начиная от раскалённых ближайших домов вплоть до самого нечитаемого горизонта. Даже цвет, такой уверенный и самодостаточный, утратил своё естественное первородство, в плотных потоках упрямой жары представ своей разбелённой производной, спорадической и невзрачной.
По сути, наступившие времена зноя по своей разрушительной силе сравнимы с библейским потопом, той рубежной вехой, после которой, собственно, и началась подлинная история человечества. Зной, способный ввергнуть сознание в состояние первичной неопределённости, тоже может положить начало новым сущностям и стать цивилизационным кануном их дальнейшей истории.
Человеческий разум легко уязвим, он не имеет надёжной защиты против такого природного явления как жестокий зной. Здесь немыслим никакой спасительный ковчег, ибо там, где кончается разум, исчезает и наша человеческая природа, нацеленная на развитие и созидание. Об этом всегда необходимо помнить, особенно тогда, когда внешние причины способны нанести урон рассудку, единственной защитой которого неизменно являлось главенствующее положение разума в иерархии ценностей общества и человека. А также – человеческая способность осмысленно преодолевать трудности своего бытия.
Пространство Козырева
У бессонницы усталые и воспалённые глаза, но лица её я никогда не мог внимательно рассмотреть. Более того, совершенно невозможно было предсказать, в каком образе бессонница очередной раз предстанет перед тобой: либо это будет бледная худощавая женщина, бестелесная, как плоскостной манекен, либо она появится в одном из своих немыслимых обличий, зачастую напоминающих ожившие тени. Фантазия у бессонницы безгранична, личин у неё – невообразимое множество, облик её изменчив, а порою даже неуловим и неясен.
Но когда она отступает, то вместо неё является рыжий учёный кот, и я уже наверняка знаю, что сон близко. По обыкновению он мурлычет свои бесконечные песни, только я, утомлённый и измученный предыдущей гостьей, совсем не разбираю его сладкоречивых слов. Хотя, наверное, этого и не нужно. Кот вежливо щурит глазки, и я хорошо вижу не только его лукавые зрачки, но и всё его существо целиком, а также златую цепь на стволе дерева и густую крону могучего дуба, теряющуюся в высоком ночном небе.
Надо сказать, что назначенное мне преддверие сна – исключительно интересное место, и неслучайно учёный кот избрал его в качестве своей обители. Внизу, у самых корней дерева, где мой персональный Оле-Лукойе лелеет меня благозвучным напевом, всё как будто бы лишено фактуры и представлено почти условно, в то время как высоко, в кроне, в замысловатой паутине ветвей, происходят чрезвычайно удивительные вещи. Возможно, так устроил своё обиталище сам учёный кот, а может быть, это отличительная здешняя особенность, способствующая непостижимой магии сна. Нет, там не поют птицы, и не сидят на ветвях русалки, однако именно взгляд вверх становится той искомой дорожкой в царство Морфея, по которой шествует моё усталое сознание, стремительно теряющее тяжесть дневных впечатлений. Там, наверху, во всей своей физической полноте образовалось пространство, некогда описанное астрофизиком Николаем Козыревым, место, в котором перестают что-либо значить пространственные координаты, а будущее, прошедшее и настоящее соединяются в единый, нерасторжимый клубок времени. Древесное, замысловатое кружево, призванное быть статичным, обретает качество подвижной живой материи, получая возможность не только менять свою форму и цвет, но и включать в себя сонм счастливых реминисценций, вместе с зыбкими рядами несказанных фантомов, очевидно пришедших сюда прямо из будущего. Погружаясь в их витиеватые формы и теряясь в скоротечной игре незнаемого либо каких-нибудь затерявшихся воспоминаний, мой ослабевший разум становится сопричастным ирреальной физике новоявленного пространства, вследствие чего, непосредственно и неотвратимо, я становлюсь подвластным гипнотическим чарам божества сновидений, которым более не способен противостоять никто. В сознании лишь на одно мгновение вспыхивает образ моего пушистого Вергилия – учёного рыжего кота, и вот я уже стремительно падаю в глубокий и беспробудный сон под его мелодичное песнопение.
На отшибе
Едва я оказался на мощёной дорожке за порталом Надвратной церкви, как на меня сразу же обрушилась волнующая монастырская тишина. Мне казалось, что всё здесь иное, чем там, за пределами этой обители: и сооружения, и ограды, и деревья, и люди, и даже солнечный свет, осеняющий кровли и высокие купола. Воздух тут был тоже особенный – густой и тяжёлый, то ли от тесноты узкого коридора, образованного массивными стенами исторических некрополей, то ли от соседства с рекой Монастыркой, зажатой между Невой и Обводным каналом.
Миновав Первый Лаврский мост, я остановился перед северными Благовещенскими воротами с мозаичным ликом Спасителя. Позади меня оставалась тёмная монастырская река, прежде справедливо именуемая Чёрной, а впереди, из разверстых ворот на набережную струились острые стремительные лучи, во многом подобные тем, что украшали решётку этого арочного проёма.
«Он не заслужил света», – зачем-то промелькнула в моей памяти строка из известного романа, и я оглянулся назад, туда, где чёрным зеркалом мерцала невозмутимая гладь Монастырки. Не знаю, почему эта фраза остановила меня и заставила вернуться назад, в конец пройденного мною узкого коридора. Недолго постояв около ажурной стойки моста, я перелез через его чугунный парапет и очутился на запущенном берегу реки, густо заросшем полевыми цветами и луговыми травами. К моему удивлению, здесь оказалась тропинка, очевидно проложенная такими же носителями диффузного цинического разума, которые тоже оказались неспособными заслужить свет. Везде и во всём я оказывался невостребованным и лишним, но теперь чувство сопричастности с теми, кто некогда шёл этой петляющей тропинкой, ласкало и грело мне душу. Жаль было только, что эта дорога вела меня не к храму, а куда-то туда, где в зловещей полуулыбке разворачивала свои чёрные воды Монастырка, в настоящем событийном контексте выступающая в качестве античной реки забвения. Я сошёл с тропинки и подошёл совсем близко к реке. Случайно наклонившись над спокойной водой, я не увидел на её поверхности ничего, кроме глубокой тени от церковных корпусов на противоположном берегу реки. Водная гладь, вопреки всем законам оптики, не воспроизводила никаких очертаний: ни контуров фигурной стены, огораживающей Благовещенский храм, ни бликов от нависших над рекою кустов и деревьев, ни камней, ни травы, более того, я не увидел там даже собственного отражения.

