 Полная версия
Полная версияИисус Неизвестный
V
Пилат если и жесток, то не своею, личною, а общею, римскою жестокостью. Древняя Волчица, приняв в берлогу свою чужого щенка, с материнскою нежностью лижет его и покусывает; мачeха балует чужое, может быть царской крови, больное дитя. Нянчатся римляне с иудеями так, что этому трудно поверить: римских граждан казнят, по закону, за оскорбление той самой веры иудейской, которую считают просвещенные римляне «Иудейским суеверием», Judaica superstitio.[889] A иудеи, чем больше с ними нянчатся, тем хуже наглеют. Римских наместников доводят до такого отчаяния, что те сослепа бьют по ком и по чем попало. Кажется, нечто подобное произошло и с Пилатом.[890]
«Иудейской провинции наместник», procurator provinciae Judaeae, – этот служебный титул не слишком, должно быть, радовал его, после шестилетнего горького опыта. С каждым днем все яснее предчувствовал он, что не сносить ему головы, не уцелеть между двумя огнями – римским баловством и «жидовскою наглостью». – «Лютому их благочестию не мог надивиться», вспоминает о нем Иосиф Флавий;[891] надо бы сказать не «благочестию», а «изуверству». Худшей стороной своей обращен Пилат к иудеям, и те – к нему: он для них – «пес необрезанный», «враг Божий и человеческий», а они для него – племя «прокаженных» или «бесноватых». Править ими все равно, что гнездом ехидн. То же, что впоследствии будут чувствовать такие просвещенные и милосердные люди Рима, как Тит Веспасиан и Траян, – желание истребить все иудейское племя, разорить дотла гнездо ехидн, разрушить Иерусалим так, чтобы не осталось в нем камня на камне, плугом пройти по тому месту и солью посыпать ту землю, где он стоял, чтобы на ней ничего не росло, – это, может быть, уже чувствовал Пилат.
VI
Если непонятны ему, страшны и гнусны все вообще дела иудеев, то это, Иисусово, страшнее, гнуснее и непонятнее всех. Сделаться орудием «изуверства Иудейского», с легким сердцем, не мог бы Пилат.
Знал, что первосвященники предали Его из зависти. (Мк. 15, 10.)
Слишком легко мог догадаться, чтό внушало им зависть к Иисусу: мудрость, святость, чудесная власть над людьми, – все, что и Пилату казалось «доблестью», virtus. Зависти этой, конечно, не мог бы он угадать только из представленных ему против Иисуса врагами Его, обвинений, ни даже из допроса почти безмолвного Узника. Если же все-таки о «зависти» их кое-что знает, то потому, вероятно, что довольно хорошо осведомлен о деле Иисуса уже заранее. Бывшее за пять дней до того вшествие в Иерусалим «сына Давидова» едва ли осталось неизвестным римскому наместнику. Так же быстро и легко, как до царя Ирода, в Тивериаду, могла дойти и до Пилата, в Кесарию Приморскую, столицу наместника, молва, еще более ранняя, о делах «пророка из Назарета», чаемого «Мессии», «царя Иудейского», о «чудесах» Его и «знамениях»; мог дойти и слух о том, что темный народ почитает этого нового пророка «Сыном Божиим» или «сыном богов», как назовет Его римский сотник, видавший смерть Его на кресте (Мк. 10, 39). А что значит «сын богов», мог знать Пилат уже потому, что все великие люди, от Александра до Цезаря и до тогдашнего «божественного» Августа, divus Augustus, Тиберия, – «сыны богов»; мог это знать Пилат, как все просвещенные римляне, и из IV Эклоги Виргилия, римскому певцу Иудейской Сибиллой нашептанной о грядущем «сыне богов», о конце старого века, Железного, и начале нового, Золотого, о «царстве Божием» на земле:
Скоро наступит тот век; скоро ты будешь прославлен,
Отпрыск высокий богов, великое Зевсово чадо.
Зришь ли, как всей своей тяжестью зыблется ось мировая, —
Недра земные, и волны морей, и глубокое небо?
Может быть, впрочем, в этом, как во всем, Пилат – «человек средний»: верит почти – почти не верит в грядущего «сына богов»; то посмеивается, то побаивается; большею же частью не думает об этом совсем. Но недаром век Пилата – век Аполлония Тианского: слыша о чудесах нового «мага», смешивает, должно быть, Пилат, в своем маловерии – суеверии, этих двух чудотворцев, Тианского и Назаретского.
Ирод… давно желал видеть Иисуса, потому что много слышал о Нем и надеялся увидеть от Него какое-либо чудо. (Лк. 23, 8.)
Меньше этого желал и надеялся на это Пилат, но, вероятно, и он чувствовал к Иисусу нечто подобное.
VII
Что такое свидетельство Матфея (27, 19) о жене Пилата, вещей сновидице, тайной за Праведника заступнице – миф или история? Оба впечатления одинаково возможны и недоказуемы. Но, если «невероятною» кажется иногда и несомненная действительность (Достоевский), то и несомненная история кажется иногда «мифом», и подлиннейшее Евангелие – «апокрифом». Это надо всегда понимать, имея дело с такой невероятной и несомненнейшей действительностью, как Страсти Господни. Будем же бережней многих евангельских критиков к этому свидетельству Матфея – малому, но чистейшей воды алмазу в венце Страстей.
Будущая «святая» Клавдия Прокла, Claudia Procula (так назовут жену Пилата предания Церкви), может быть, немногим святее Пилата. Слишком похоже на поздний апокриф исцеление Клавдии Господом от какой-то смертельной болезни («Деяния Пилата»).[892] Но темные догадки ранних легенд или церковных преданий о том, что жена Пилата – одна из «богобоязненных», «иудействующих», знатных римлянок – первых ласточек весны Господней, каких было тогда немало, – может быть, не совсем лишены вероятия. Если домоправителя Иродова, Хузы жена, Иоанна (Лк. 8, 3), последует за Господом, в смиренной толпе Галилейских жен, а через несколько лет, будут, при дворе Нерона, тайные ученицы Христовы, то почему бы не могла быть, и при дворе Пилата, влекущаяся к Господу издали, живая душа?[893] Эта ночная кукушка, увы, не перекукует дневную, но таинственный шепот Клавдии мог усилить желание Пилата оправдать Иисуса.
Если кажущийся «миф» Матфея – действительная история, то каким новым лучом Вечно-Женственного, – последним на жизни Господней, – озарилась бы эта чернейшая в летописях человечества, страница – суд людей над Человеком!
VIII
Очень вероятно, что Пилат действительно считал Иисуса невинною жертвою первосвященнической «зависти» и хотел Его спасти.[894]
Если бы ничего доброго не было в душе этого язычника – «пса», мог ли бы он покончить с собой так великодушно или, хотя бы только почти великодушно, предпочтя суд подземных богов суду венчанного слабоумца, императора Гайя? Доброе это, может быть, и сказалось в суде Пилата над Иисусом. Очень вероятно, что он действительно хотел Его оправдать и сделать для этого все, что мог бы сделать на месте его «средний человек», почти справедливый, почти милосердный судья.
Чист я от крови Праведника сего; смотрите вы (Мт. 27, 24), —
сказал ли он это беснующейся на Гаввафе толпе, или не сказал (рук не умывал, конечно, по иудейскому, «презренному» для него, обычаю), во всяком случае, он мог это чувствовать или, по крайней мере, хотеть чувствовать.[895]
Руки будут умывать от крови Господней все «почти справедливые», «почти милосердные» судьи, «средние люди», – но не умоют: суд Пилата – суд мира сего над Христом, во веки веков.
IX
«К черту отправить иудеев!» – было, вероятно, первым движением Пилата, когда ему доложили, что члены Синедриона привели к нему на суд «бунтовщика», Иисуса Назорея, и не желают войти в преторию, чтобы не «оскверниться» в Пасху (Ио. 18, 28). К «наглости жидовской» все еще, должно быть, не мог привыкнуть римский наместник: это было похоже на то, как если бы пес не захотел войти в дом человека, чтобы не оскверниться.
Если первым движением Пилата было это, то вторым, может быть, – поднять глаза и вглядеться в мутно-желтое небо, в тусклое, без лучей, красное, кровяное солнце хамзина. Понял, отчего ломота в членах, тяжесть в голове и по всему телу то жар, то озноб, – «от погоды». Брезгливо поморщился: гнусное небо, гнусная земля, гнусные люди. И это Иисусово дело – гнуснейшее. Чем оно кончится? Новым доносом на Капрею, Сейану, страшного старика подлому наушнику? Знал, каким опасным для него может быть донос об «оскорблении величества», crimen laesae majestatis, в деле «Царя Иудейского».[896]
Знал, что «к черту отправить иудеев» не так-то легко: весь день, всю ночь простоят у дверей, а своего добьются, не отстанут, или хуже будет: сами чернь возмутят, а потом на него же донесут, как это столько раз уже бывало.
Вспомнил, может быть, и урок «человеколюбца», Тиберия, и злобно усмехнулся. Грузно встал, вытер пот с лысины, и медленно, трудно, как будто шел не сам, а влекла его невидимая сила, вышел на Лифостратон.
Здесь ожидали его, в белых одеждах, разодранных так, что лохмотья влачились в пыли, Семьдесят и один, с Узником.
X
Судя по дальнейшему свидетельству Марка (15, 8): «народ взошел»,

, с нижней площади храма наверх, в преторию, – народу было еще немного на этой верхней площади.
Первосвященники… отвели Иисуса… к Пилату. (Мк. 15, 1).
Если «первосвященники» и здесь, как во всех евангельских свидетельствах, значит не только «Анна и Каиафа», но и «дети их» и «родственники», то дьяволова шапка-невидимка не снята с Ганана и здесь: может быть, он присутствует невидимо на площади, управляя всем, как спрятавшийся под сценой хозяин кукольного театра, движущий на невидимых ниточках куклы; их сейчас – две: народ и наместник. Издали, может быть, узнал Пилат архиерейские носилки, по небесно-голубому шелку занавесок, и почудилось ему за ними всеслышащее ухо, всевидящее око первосвященника Анны: с ним-то и предстоит сейчас им обоим, судье и Подсудимому, поединок смертный.
XI
Вышел к ним Пилат и сказал: в чем обвиняете вы человека сего?
Они же сказали ему в ответ: если бы не был Он злодеем, мы не предали бы Его тебе.
Новую «иудейскую наглость» понял, должно быть, Пилат: требуют, чтобы поверил им на слово и без суда скрепил приговор; хотят взвалить на него всю ответственность за гнусное дело.
Пилат сказал им: возьмите Его вы и, по закону вашему, судите.
Поняли, должно быть, и они, что попали в ловушку; молча проглотили обиду – напоминание об отнятом у них праве меча, jus gladii.
Иудеи же сказали Пилату: нам не позволено предавать смерти никого. (Ио. 18, 29–31.)
И начали обвинять Иисуса, говоря: мы нашли, что Он развращает народ наш и запрещает давать подать кесарю, делая Себя Христом – Царем. (Лк. 23, 2.)
Это – главное обвинение, страшное не только для Иисуса, но и для самого Пилата: «Иисус – царь Иудейский».
И когда обвиняли Его… Он ничего не отвечал. Тогда говорит Ему Пилат: слышишь, сколько свидетельствуют против Тебя?
Но Иисус не отвечал ему ни на одно слово, так что наместник очень дивился. (Мт. 27, 14.)
…И настаивали, говоря: Он возмущает народ, начиная от Галилеи до сего места. (Лк. 23, 5.)
Это и значит: «Возмутитель всесветный», – как некогда скажут об учениках Иисуса: «люди, Возмущающие вселенную» (Д. А. 17, 6).
Пилат же опять спросил Его: Ты ничего не отвечаешь? Видишь, как много против тебя свидетельствуют.
Но Иисус и на это ничего ему не ответил. (Мк. 15, 4–6.)
Тогда Пилат опять вошел в преторию и призвал Иисуса. (Ио. 18, 33.)
XII
Руки, должно быть, велел у Него развязать; долго смотрел, глаз оторвать не мог от вдавленных веревками, на бледно-смуглой коже, красных запястий. «Как затянули, мерзавцы!» – может быть, подумал.
Прямо повисли руки; складки одежды легли прямо. Веки на глаза опустились так тяжело, что казалось, уже никогда не подымутся; так крепко сомкнулись уста, что, казалось, уже не разомкнутся никогда.
Пристальней вгляделся в лицо Его Пилат. «Сын богов?» Нет, лицо как у всех. Странно только, что как будто знакомо; точно где-то видел его, но не может вспомнить, где и когда: как будто во сне.
И спросил Его Пилат: Ты – царь Иудейский? (Мк. 15, 2.)
Римская гордыня, и удивление, и жалость в этом вопросе: «тебе ли несчастному, думать о царстве, с Августом Тиберием Божественным спорить?» Медленно тяжело опущенные веки поднялись; сомкнутые уста разомкнулись медленно.
Ты говоришь (Мк. 15, 2), —
услышал Пилат тихий голос, и еще яснее почувствовалось, что где-то, когда-то видел это лицо.[897]
XIII
«Ты – царь Иудейский?» – этот вопрос, и ответ: «ты говоришь», у всех четырех евангелистов, – слово в слово, тот же: врезался, должно быть, в память неизгладимо. Кажется, ответ подтверждается и внеевангельским свидетельством Павла:
…доблестно исповедал Себя, μαρτύρησα ντος… ήν τκαλήν, перед Понтием Пилатом… Христос (Царь) Иисус. (I Тим. 6, 13.)
В доме Каиафы, исповедал Себя перед лицом всего Израиля: «Я – Сын», а в претории Пилата, – перед лицом всего человечества: «Я – Царь». Если отвечает как будто уклончиво двусмысленно: «ты говоришь, а не Я», то потому только, что не может признать Себя «царем Иудейским», в том смысле, как это разумеет Пилат. Ложно понял бы тот оба прямых ответа: «Я Царь», и «Я не Царь». С более математическою точностью нельзя было ответить, и какое нужно было спокойствие, чтобы ответить так!.[898]
Стоило бы только Иисусу сказать: «нет, Я не царь», и был бы спасен. Он и сам это знает, конечно; но воля Его пострадать все еще, и в этой второй Агонии, непоколебима: мужественно вольно идет на крест.
Никто не отнимает жизни у Меня, но Я сам отдаю ее: власть имею отдать ее, и власть имею опять принять ее. (Ио. 10, 17–18.)
XIV
Очень вероятно, что весь разговор (кажется, впрочем, Иисус опять умолкает, после тех двух единственных слов: «ты говоришь», и говорит уже один Пилат; в этом правы синоптики, вопреки IV Евангелию), весь разговор, слишком для перевода внутренний, идет не по-арамейски, а по-гречески, без толмача. Сразу, может быть, не понял Пилат, что значит, на греческом языке, арамейское: «ты говоришь»: «да» или «нет»? Но вдумался – понял: «ты говоришь, что Я – царь. Я на то и родился и пришел в мир, – чтобы царствовать», – как верно понял Иоанн (18, 37). – «Доблестно исповедал Себя Христос-Царь, Иисус»; это, может быть, прочел и Пилат в лице безмолвного Узника.
После такого признания из уст самого Подсудимого, должно бы судье, по букве закона, прекратив ненужный допрос, объявить приговор, потому что в Иудейской провинции, как сами же иудеи признают сейчас, «нет иного царя, кроме кесаря» (Ио. 19, 15). Но понял, вероятно, Пилат и то, что в этом деле буква закона мертва: здесь «совершенный закон – беззаконие совершенное», summa jus, summa injuria. В том, что Иисус считает Себя «царем Иудейским», не делая ничего для приобретения царства, Пилат не находит достаточной для приговора вины и продолжает тщетный допрос совершенно безмолвного, по синоптикам, а по Иоанну, почти безмолвного Узника.[899]
XV
Твой народ и первосвященники предали Тебя мне. Что же Ты сделал? —
спросил Пилат.
Царство Мое не от мира сего (Ио. 18, 35–36), —
ответил будто бы Иисус, если верить, кажется, не первому, а одному из следующих, неизвестных «Иоаннов», творцов IV Евангелия. Мог ли бы так ответить Иисус? Кто сказал только что или дал понять: «Я Царь Иудейский», – Тот, если бы и мог сказать: «царство Мое не от мира сего», то, уж конечно, совсем не в том смысле, как это будет понято христианством за две тысячи лет. Чтобы ответить так, надо было бы Иисусу отречься от Христа – от самого Себя, и от главного дела всей жизни и смерти Своей:
да приидет царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе.
Нет, если бы только предвидел даже не первый, а один из последних «Иоаннов», что это слово так будет понято, то не вложил бы его в уста Господни.
В этой темнейшей загадке христианства, кажется, главное и все решающее слово – «ныне».
Ныне,

, царство Мое не отсюда, —
это никем никогда не услышано. «Ныне – сегодня – сейчас царство Мое еще не от мира сего; но уже идет в мир; будет и здесь, на земле, как на небе».
Это почти понял, хотя бы на одно мгновение, даже такой «средний человек», как Пилат.
Итак, Ты – царь? (Ты все-таки Царь?),
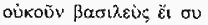
(Ио. 1, 37), —
повторяет он и настаивает, чтобы понять совсем. И слышит сказанный, или читает опять безмолвный, ответ Узника:
Я на то и родился и пришел в мир, – чтобы царствовать.
Понял Пилат почти, но не совсем: мелькнуло – пропало; было, как бы не было. «Царство Его не от мира сего – неземное, на земле невозможное, неопасное», – это понял Пилат уже не почти, а совсем, и, должно быть, успокоился, убедился окончательно, что перед ним не «злодей», не «бунтовщик», не «противник кесаря», а невинный «мечтатель», что-то вроде «Иудейского Орфея», безобидного, смешного и жалкого: такого казнить, все равно что ребенка. Понял это Пилат и, может быть, уже готовил в уме донесение в Рим: «в деле сем не нашел я ничего, кроме суеверия, темного и безмерного».[900]
XVI
Мытаря, блудницу и разбойника на кресте легче было полюбить Иисусу, чем «среднего человека», Пилата. Но если не полюбил, то, может быть, пожалел; предложил ему спасение за то, что он почти хотел Его спасти. Что-то сказал ему об истине, – что именно, мы не знаем, потому что слова, будто бы, Иисусовы:
всякий, кто от истины, слушает гласа Моего (Ио. 18, 37), —
слишком Иоанновы. Но ответ Пилата мы знаем с несомненной, исторической точностью; слышим его, как слышал Иисус; видим, как видел Он, в тонкой усмешке на бритых губах, страшную, как бы неземную, скуку, может быть ту самую, с какой будет смотреть Пилат на воду, мутнеющую от крови растворенных жил.[901]
Что есть истина? (Ио. 18, 38), —
в этом слове – «громовое чудо», как скажет Великий Инквизитор о трех Искушениях дьявола: «если бы слово это было бесследно утрачено, забыто, и надо было бы восстановить его, то вся премудрость земная могла ли бы изобрести хоть что-нибудь подобное?» О, конечно, не «среднего» ума человек говорит его, а тот, кто за ним: весь Рим – весь мир. Что, в самом деле, мог бы сказать весь мир самой Божественной Истине, призванной на суд его, как не это: «что есть истина?» Но, сколько бы ни спрашивал Пилат, Иисус молчит: уже не говорит, а делает. «Слово стало плотью», и всякое отныне слово человеческое с этим божественным деланием несоизмеримо. Он уже не говорящая, а Сущая Истина. «Что есть истина?» – на этот вечный вопрос мира сего – вечный ответ Сына человеческого: «Я».
XVII
И, сказав это слово, опять вышел Пилат к Иудеям, и сказал им: я никакой вины не нахожу в Нем.
Так, в IV Евангелии (18, 38), а в III (23, 14):
вы привели ко мне человека сего, как развращающего народ, и вот я… исследовал и не нашел Его виновным ни в чем том, в чем «вы обвиняете его.
И опять, в IV Евангелии (19, 7–8):
Иудеи же отвечали Пилату: мы имеем Закон, и по Закону нашему, Он должен умереть, потому что сделал Себя Сыном Божиим.
И, услышав это слово… Пилат устрашился.
Вспомнил, может быть, «сына богов», Тиберия.
И, опять войдя в преторию, сказал Иисусу: откуда Ты?

Но Иисус не ответил ему (Ио. 19, 9).
Весь – тишина, молчание, тайна, ужас. И Пилат, может быть, сам удивился – «устрашился» того, что сказал. Вспомнил, как на полях Меггидонских, у подножия горы Гаризима, плачут самарийские флейты-киноры о боге Кинире-Адонисе:
воззрят на Того, Кого пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают о сыне единородном. (Зах. 10, 12.)
Вспомнил, может быть, как страшно отомстил Фиванскому царю, Пентею, неузнанный и поруганный им, в человеческом образе, бог Дионис, такой же, как этот, – жалкий узник.[902]
Но мелькнуло – пропало; было, как бы не было. И разгневался, должно быть, Пилат на себя, и на Него, за то, что почти было.
Мне ли не отвечаешь? Или не знаешь, что я имею власть распять Тебя и власть имею отпустить Тебя?
Иисус молчал.
Ты не имел бы надо Мной никакой власти, если бы не было тебе дано свыше; потому более греха на том, кто предал Меня тебе, —
этот безмолвный ответ, может быть, прочел судия в глазах Подсудимого. Кто предал Его? Иуда, Ганан, Израиль? Нет, весь мир.
С этой минуты, Пилат искал отпустить (оправдать) Его. (Ио. 19, 10–12.)
Этого и прежде искал, но теперь – еще больше: смутно, может быть, хотя бы на одно мгновение, понял, что сам погибнет, если Его не спасет.
XVIII
Выйдя опять с Иисусом на Лифостратон, – в который раз? – увидел Пилат, что, только что пустынная, площадь наполняется народом, как водоем – вдруг пущенной водой. Снизу, с храмовой площади. —
всходила толпа,
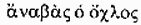
, – живо вспоминает, как бы глазами видит, Марк. Если бы римский наместник не был так слеп к «презренным» иудеям, то пристальней вглядевшись в толпу, увидел бы, что это не настоящий народ, а поддельный, ряженый, – Гананова «кукла»: частью сиганимы, «стражи-блюстители» храма, дети знатных левитских родов; частью же храмовая челядь, слуги и рабы первосвященников, – самая черная чернь, заранее наученная, что, когда и по какому знаку делать; готовая, в угоду господам своим, не только «Сына Давидова», но и самого отца послать на крест.
Первосвященники… возбудили чернь (научили,

)… как погубить Иисуса. (Мт. 27, 20.)
XIX
К празднику же (Пасхи) наместник имел обычай отпускать народу одного узника, которого хотели. (Мт. 27, 15).[903]
Был у них тогда знаменитый узник, по прозвищу Варавва, —
так, у Матфея (27, 16), а у Марка (15, 7):
в узах был (некто) Варавва, совершивший вместе с другими бунтовщиками убийство в народном возмущении.
И, наконец, у Иоанна (18, 40), – «разбойник», ληστής, а в некоторых кодексах,
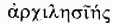
, «атаман разбойничьей шайки».[904]
В нашем каноническом чтении,

, – имя, а в древнейших и лучших кодексах Матфея и, может быть, Марка, – только прозвище: Bar Abba, что значит по-арамейски: «Сын Отца» – «Сын Божий», – одно из прозвищ Мессии; полное же имя: Иисус Варавва,
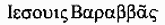
.[905] Так, в лучших кодексах Матфея, читал Ориген, и глазам своим не верил: «имя Иисуса, должно быть, еретиками прибавлено, потому что оно неприлично злодею».[906] Как будто все в этом деле – не самое «неприличное», что было когда-либо в мире. Нет, лучшая порука в исторической точности всего Матфеева свидетельства о суде Пилата – то, что это страшное и отвратительное созвучье имен, как бы дьявольская игра слов: «Иисус Варавва – Сын Отца», – здесь не умолчано.



