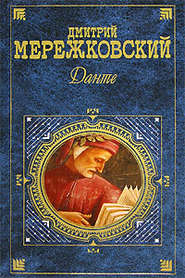 Полная версия
Полная версияПолная версия:
Данте
Большего восстания на Римскую церковь не будет у Лютера и Кальвина.
Данте – первый великий «протестант», в глубоком и вечном смысле этого слова: protesto, «противлюсь», «восстаю»:
Восстань, Боже, суди землю (Пс. 82, 8).Этого «восстания Божия» первый пророк не в Церкви, а в миру, – Данте.
«Слушаться папы должны мы не так, как Христа (Бога), а лишь так, как Петра» (человека): вот Архимедов рычаг, которым будет низвергнуто земное владычество пап в ложном Римском «боговластии», «теократии».
«Где Церковь, там Христос», ubi Ecclesia, ibi Christus: так, для св. Франциска Ассизского и для всех святых, после первых веков христианства, а для Иоахима и для Данте, наоборот: «Церковь там, где Христос», ubi Christus, ibi Ecclesia[19]. В этом – начало уже не только Преобразования Церкви, Реформации, но и Переворота в ней. Революции. Данте здесь ближе к будущему, чем Лютер и Кальвин.
Двух менее схожих людей, чем Лютер и Данте, трудно себе и представить. Но в самом религиозно-глубоком для них и существенном, есть между ними и общее: та же у обоих «прямота», drittura, по слову Данте; то же бесстрашие в исповедании истины:
...Презирая ложь,Скажи бесстрашно людям все, что видишь[20], —этот завет Качьягвидо, великого Дантова предка, исполнили оба: если бы даже хотели, то не могли бы не сказать правды, хотя бы и в виду костра; та же у обоих «душа мятежная», alma sdegnosa, «дух возмущенный», – начало всех «противлений», «протестантств», в вечном смысле.
Нынешние католики, кажется, слишком уверены, что если бы Данте жил во дни Лютера, то кинул бы его в огненный гроб ересиархов. Может быть, и кинул бы, но почтил бы в аду так же, как Фаринату:
Он поднялся из огненного гроба,С лицом таким надменным и спокойным,Как будто ад великое презреньеЕму внушал.Много общего между Данте и Лютером, но больше все-таки разделяющего, все по той же, главной для них обоих, линии «протестантства» – «восстания», в вечном смысле этого слова.
Лютер восстает на Римскую Церковь извне, Данте – изнутри. «Наша война не с плотью и кровью... а с духами злобы». С духом Римской Церкви воюет Данте, а Лютер – с плотью и кровью: так же мало страдает дух Римской Церкви от бешеной брани его, как дьявол – от брошенной в него чернильницы. Только одно отрицание старого – обращенное к Церкви, голое «нет», – у Лютера, а у Данте – «нет» и «да», отрицание старого и утверждение нового. Лютер побеждает Римскую Церковь только частично и временно; а если бы победил Данте, то победа его была бы вечной и полной. Тихое восстание Данте страшнее для Церкви, потому что не внешне, а внутренне мятежнее, революционно-взрывчатей буйного и шумного восстания Лютера.
Данте – «протестант» и «католик», опять-таки в вечном смысле этого слова: «христианин Церкви Кафолической, Вселенской». Лютер – только протестант. Если идея Церкви потухнет в умах после Реформации, то потому, что в уме самого Лютера она уже начала потухать: Церковь для него только «община». Греческое слово: Ekklesia, в Евангельском подлиннике, он переводит религиозно и исторически-неверным немецким словом: Gemeinde, «община», – опустошая понятие Церкви, как «Тела Христова» – полноты «Наполняющего все во всем» и сводя все глубокое в этом понятии к плоскому, четырехмерное – к двухмерному (Еф. 1, 23). Вот почему в Протестантстве-Реформации будет множество «общин», «церквей», но Церкви не будет.
Лютер логически-правильно думает о Римской Церкви; Данте в ней живет, путаясь в противоречиях, как в «диком и темном лесу», selva oscura, selvaggia; но жизнь больше логики. «Папа – Антихрист», это легко сказать тому, кто о Римской Церкви думает, но трудно тому, кто в ней живет. Может ли быть Церковь без папы, и что она такое сейчас – «помойная яма» или «Святейший Престол», – этого Данте не знает наверное и, может быть, не хочет знать, от страха и муки за церковь. Он судит пап, но не папство; как бы ни были грешны те, это для него свято.
Видя папу Адриана V на том уступе Чистилищной Горы, где очищается грех скупости, жалко поверженного лицом на землю, связанного по рукам и ногам не плотскими узами, Данте падает перед ним на колени.
«Что так тебя повергло?» – он спросил,И я в ответ: «Ваш сан, Отец Святейший!»[21]Папу Бонифация VIII, злейшего врага своего и Господня, после жалкого и страшного «сидения» в Ананье, где французский холоп, Чьяра Колонна ударил железной перчаткой по лицу восьмидесятилетнего старца[22], – Данте жалеет и прощает:
Я вижу, как в Ананье входит знамяФранцузских Лилий; вижу вновь Христа,Плененного в наместнике своем;Я вижу, как вторично Он осмеян,И уксусом и желчью напоен,И меж разбойниками распят[23].Этого Лютер не мог бы сказать, но не потому, что был свободнее, мятежнее, «революционнее», чем Данте, а потому, что меньше чувствовал трагедию Церкви и меньше понимал, что для явления Вселенской Церкви нужно не Преобразование-Реформация, а Переворот-Революция.
Данте чувствует вопрос о Церкви в сердце своем и в сердце мира, как впивающееся жало. Как человек в агонии не знает, хочет ли страдать, чтобы жить, или не жить, чтобы не страдать, так не знает и Данте, хочет ли он быть или не быть в Римской Церкви; любит ли ее или ненавидит; мать ли она или мачеха: Тело Христа или тело Зверя. Кто никогда не был в такой агонии, кто старой церкви так не любил и так за нее не страдал, тот никогда не войдет в Новую Церковь.
Нет у Воинствующей Церкви большейНадежды, чем он, —слышит Данте из уст Беатриче[24]. Мог ли бы он, не будучи глупцом, этому поверить и не почувствовать, какая ответственность падает на него с этою верою? Или Беатриче ошибалась? Много как будто было у Церкви больших надежд, чем Данте? Нет, не ошиблась: с каждым днем надежд все меньше, а величие Данте растет, так что скоро не будет в самом деле у Церкви большей надежды, чем он.
Выйдя из Чистилища, Данте входит в Рай Земной.
И взор в меня вперив, сказал Виргилий:«Пройдя огонь, и временный и вечный,Того предела ты достиг, мой сын,Где зрение мое уже бессильно...Так будь же сам себе вождем отныне...И от меня не жди ни слов, ни знаков.Свободен ты и здрав в своих желаньях...Вот почему тебя я надо всемКороною и митрою венчаю»[25].Что это значит, объясняет сам Данте, в «Монархии», там, где, говоря о власти императора в будущей Всемирной Империи, вспоминает слова Аристотеля: «властвовать должно тому, кто всех превосходит умом» («ум» значит здесь, конечно, «дух»)[26]. Но лучше объясняет Откровение (20, 6):
Будут (победившие с Агнцем) священниками Бога и Христа, и будут с Ним царствовать.Это и значит: будут увенчаны «короной» императоров и «митрою» пап.
Мы теперь, через семь веков, могли бы знать то, чего не знали современники Данте: нищий, изгнанный, презренный людьми, приговоренный к смерти, но уже венчанный двойным венцом – «короной и митрой», – Данте имел большее право быть духовным вождем человечества, чем все тогдашние папы и императоры. Это могли бы мы знать, но не хотим, и все еще Данте изгнан и презрен, в наши дни, как в свои. Но если надо будет людям, чтобы спастись от второй Великой Войны – второго Потопа, уже не водного, а кровавого и огненного, войти в ковчег новой Вселенской Церкви, то, может быть, поймут они, что самый близкий и нужный им человек – тот, кто один из первых вошел в нее, – Данте.
XI
ДВА ИЛИ ТРИ?
Что такое «первородный грех»? Бунт человека против Бога, заключенный в «похоти знания», libido sciendi, по глубокому слову Августина. Этому учит Церковь и еще до Церкви учила незапамятно-древняя, седая мудрость Вечной Книги:
Бог заповедал человеку, говоря: от всякого дерева в раю ты будешь есть; а от древа познания добра и зла, не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь... И сказал Змей жене: нет, не умрете; но откроются глаза ваши, и будете как боги.Эту мудрость Вечной Книги Данте забыл или недостаточно помнит, решая вопрос о том, как относится Знание к Вере. «Знание есть последнее совершенство нашей души и высшее для нее блаженство»[1], – учит он, предпочитая бытие вторичное, отраженное в познании добра и зла, жизни и смерти, бытию первичному, в победе добра над злом, жизни над смертью, и соглашаясь на тот соблазн первородного греха – «похоть знания», – который погубил Матерь Жизни, Еву:
И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделено, потому что дает знание; и взяла его и ела (Быт. 9, 16; 3, 4—6).Это и значит: «Высшее блаженство для человека в знании», – не в самом бытии, а в его отражении; не в том, чтобы человеку быть в Боге, а чтоб «быть, как Бог». «Эти люди, как боги, elli son quasi dei», – говорит Данте о людях, достигших высшего знания[2].
Знание и Вера, в первоначальном согласии, подобны двум близнецам в одной колыбели, Каину и Авелю. Но, выросши, Каин восстает на Авеля, Знание – на Веру, в братоубийственной распре. Будет ли когда-нибудь распре положен конец, совершится ли великое чудо примирения воскресшего Авеля с убившим его Каином, – нового, верующего Знания – с новою, знающей Верой? Этот вопрос, не только не разрешенный, но и не услышанный святыми в церкви, грешным Данте, первым, услышан и поставлен в миру, в «двух книгах: в „Пире“ и в „Комедии“, или точней, в „Пире“ и в „Аде“, или еще точнее, где-то между „Адом“ и „Пиром“.
Как ни трудно поверить, что «Пир» одновременен «Аду», – это несомненно. В 1308 году кончен «Ад», а «Пир» начат между 1306 и 1308 годами: следовательно, обе книги пишутся вместе[3]. В 1291 году, вскоре по смерти Беатриче, когда появляется «Жалостливая Дама», Donna pietosa, будущая «Прекрасная Дама Философии», – Данте изменяет первой любви своей к Беатриче для этой, второй. Та же измена повторяется и в 1307 году, так что шестнадцати лет любви как не бывало: точно проснувшись от страшного сна – Ада, он все начинает сызнова, с того же времени и места, когда и где заснул: снова выходит из «темного леса, selva oscura, столь горького, что смерть немногим горше» (теми же почти словами говорится в обеих книгах, об этом исходе в «Пире»[4]: «Ты заблудилась, душа моя», tu... se smarrita anima nostra[5]; и в «Аду»[6]: «Верный путь был мною потерян, la via diritta era smarrita, „я заблудился“); снова видит озаренную солнцем „блаженную Гору“, dilettoso monte[7], – самодовлеющее, от веры освобожденное знание. В эти дни Данте „покинул теологию“, – скажет сын его, Пьетро, в истолковании Ада[8]. „Теологию покинул“ это и значит: покинул Беатриче, – Вере изменил для знания.
«Всякую другую мысль изгоняет из души моей сладость этой новой любви, так что я забываю ту первую любовь мою для второй»[9]. «Пир» и есть не что иное, как «забвение» – измена первой любви и попытка оправдать измену перед людьми, перед самим собой и перед Богом.
«Я боюсь, чтобы эта меня поработившая страсть (к Милосердной Даме) не показалась людям постыдною. Но всякий стыд прекратится, если я скажу, что движущей силой во мне была не страсть (к смертной женщине), а святая любовь» (к бессмертной Даме Философии)[10].
Вы, Ангелы, движущие мыслью Третье Небо (любви), внимайте тому, что сердце мое говорит, и чего никому, кроме вас, я сказать не могу, – таким оно кажется странным мне самому... Странное сердце мое вам одним я открою......Против воли смиренной, что мне всегда говорит о Женщине-Ангеле, в небе венчанной, мысль иная, чтоб разрушить ее, восстает...Но все еще плачет душа моя о первой любви...«Ты заблудилась, Душа, – оттого так страдаешь», – Дух новой любви мне говорит. —... «Страхом низким страшишься ты этой Дамы (философии).Но разве не видишь, как милосердна онаи смиренна... в величии своем?Назови же ее единственной Дамой своей, —и такие чудеса ее увидишь,что скажешь: «истинный Владыка мой, Любовь, —се, раба твоя, да будет мне, по слову твоему!»[11]Главная противоположность этих двух прекрасных Дам заключается в том, что ко всему неумолимая и равнодушная Беатриче – Вера незнающая – уходит от земли на небо, а Дама Философия – Знание неверующее – нисходит с неба на землю, «милосердная», pietosa; та порабощает людей, а эта их освобождает: ум, погруженный в знание, «освобождается». – «Дама Философия свободой прославлена»[12].
«Пир» и «Ад», в самом глубоком существе своем, в движущей их воле, так не похожи друг на друга, так противоречивы, что кажется, написаны не одним человеком, а двумя: «Ад» – христианином, «Пир» – язычником. Если в той книге, – Данте, то в этой – Анти-Данте, или наоборот. Но это кажется только на первый взгляд, а вглядываясь глубже и пристальнее, видишь, что две эти книги писали не два человека, а две души в одном.
Ах, две души живут в моей груди!Хочет одна от другой оторваться;В грубом вожделенье, одна приникает к земле,Всеми трепетными членами, жадно,А другая рвется из пыли земнойК небесной отчизне...«Ад» написан «душою, рвущейся к небу» – незнающей Верой; «Пир» – «душою, к земле приникающей», – неверующим Знанием. Но если опять-таки вглядеться глубже и пристальней, то видишь, что каждая из этих двух книг написана обеими душами вместе; в каждой – борются они и не могут победить одна другую. В «Аде» есть уже все, что будет в «Пире», а в «Пире» есть еще все, что уже было в «Аде». Там христианин побеждается язычником, здесь – язычник – христианином; но обе эти победы не окончательны, и после каждой из них борьба ожесточается.
«Небожественная – Противобожественная комедия», – это возможное заглавие «Пира» понял ли бы Данте? «Будете, как боги», – этот обман Люцифера, невидимого Дантова спутника в Аду, – не лучший ли эпиграф к «Пиру»?
«Сюда пришел я не своею волей, но тот, кто там стоит (Виргилий), ведет меня, быть может, к той (Беатриче), которую ваш Гвидо презирал» – так можно бы истолковать очень темный и загадочный ответ Данте, в Аду, на вопрос Кавальканти-отца о сыне его, Гвидо[13]. Если так, то в этом «быть может», forse, слышится уже, сквозь вещий сон Ада (потому что вся «Комедия» – видение сна) заглушенный отзвук того, что произойдет в «Пире», наяву. Данте уже и здесь, в «Аде», сомневается, не знает наверное, какая из двух Прекрасных Дам ждет его, в конце пути, – первая ли его любовь, небесная, или вторая, земная, – Беатриче, или философия?
Хочет одна душа от другой оторваться, —эту главную причину всех мук своих он уже давно, еще в «Новой жизни», предчувствовал: «так я боролся с самим собою»[14]; «эта борьба оставалась никому не известной, кроме того несчастного, который мучился в ней[15].
Муку раздвоения Данте чувствует – это ясно для нас, но что он думает о ней, – трудно сказать, потому что он мучается и наяву почти всегда, «как бы во сне», come sognando – бессознательно, а в те редкие минуты, когда муку сознает, – путается, блуждает в темных мыслях или получувствах, полумыслях, как в том «темном лесу», где заблудился перед сошествием в ад. Но кажется, ход этих мыслей, насколько их можно понять, – таков: «две души», борющиеся в человеке и в человечестве, никогда примириться не могут; чтобы кончить между ними борьбу, надо их разделить окончательно; надо понять, что раздвоение души человеческой – не зло, а добро, установленный Богом закон. Это он и делает, или только хочет сделать, потому что это слишком противоестественно, чтобы можно было сделать это не в отвлеченной мысли, а в жизненном опыте.
«Бог поставил человеку две цели: счастье в жизни земной... знаменуемое раем земным, и вечное блаженство... в созерцании лица Божия... знаменуемое раем небесным. К этим двум целям должно идти двумя различными путями: к первой – через философию, ко второй – через духовное знание»[16]. Главное здесь то, что эти два пути различны, diversa: хотя и рядом идут, но никогда не сходятся, как две параллельные линии. Надвое должно человеку разделиться, разорваться, чтобы идти по двум разным путям вместе или то по одному, то по другому: жить в мире, как будто нет Бога, и в Боге, как будто нет мира. Этого последнего страшного вывода Данте не делает, но кажется иногда, смутно чувствует его неизбежность, – оттого и мучается так.
Двум господам никто служить не может, ибо или одного будет любить, а другого ненавидеть; или одному станет усердствовать, а другому нерадеть (Мт. 6, 24).Это он забыл, а если помнит, то, может быть, утешает себя тем, что служит не двум господам, а одному на двух разных путях, ведущих к двум разным целям. В «Пире» идет он только по одному из этих двух путей, – знанию, к одной из этих двух целей, – «раю земному», невольно или нарочно закрывая глаза на другой путь – веры – к другой цели – «раю небесному»; видит ясно «последнее совершенство души человеческой» только в мысли, рождающей знание, а на чувство, рождающее веру, закрывает глаза.
«Жить, значит, для животных, чувствовать, а для человека, мыслить». Жить, не пользуясь разумом (как «высшим благом»), для человека, «все равно, что быть мертвым»[17]. Но если так, то не мертвы ли все, живущие «безумием креста», по слову Павла? Данте не спрашивает себя об этом здесь, в «Пире», на линии Знания; спросит только на другой, параллельной линии – Веры, – в «Божественной комедии».
Все, кроме знания, – «скотская пища, трава и желуди». – «О, блаженны те немногие, кто возлежит за этою трапезою, где вкушается ангельский хлеб»[18]. Что же значит: «мудрость мудрецов погублю и разум разумных отвергну» (1 Кор. 1, 19), – знание – знающих? Данте не спрашивает себя и об этом; но что подумал бы он, или почувствовал, если бы кто-нибудь напомнил ему, бывшему ученику св. Франциска Ассизского, носившему пояс-веревку Нищих Братьев, что в том самом городе Болонье, где, вероятно, он пишет или готовит «Пир», – в 1307 году, сто лет назад, св. Франциск проклял ученого брата, основавшего там богословскую школу, за то, что этим, будто бы, «разрушалось все Братство Нищих»?[19] Что почувствовал бы Данте, если бы кто-нибудь напомнил ему эти страшные или только непонятные для нас слова в Уставе Братства (1223 г.): «Кто из братьев не знает грамоты, тот не должен ей учиться», – «Кто не умеет читать... тем самим учиться и других учить мы запрещаем»[20]. Нужно было св. Франциску от всего обнажиться духом, так же, как телом, – мнимое знание «надутых гордыней», схоластиков убить, чтобы истинное знание родить: «Я знаю только одно – нищего Христа и распятого; мне больше ничего не нужно»[21].
Нет никакого сомнения, что Франциск отшатнулся бы с отвращением и ужасом от «ангельского хлеба» Дантова «Пира» и предпочел бы ему «скотскую пищу – траву и желуди». Кто же прав, Данте или Франциск? или оба не правы? Это все еще не решенный и даже не услышанный в Церкви вопрос. Может быть, и Данте его не решил, но первый, или один из первых, услышал.
К Данте, в «Пире», ближе св. Франциска «почти божественный дух» Аристотеля, ingegno quasi divino». – «Жизни нашей учитель есть Аристотель»[22]. Если так, кто же Христос? «Я есмь путь и истина и жизнь», – кажется иногда, что это мог бы сказать в «Пире» Аристотель, а не Христос. Мнение Аристотеля для Данте – «как бы вселенское, католическое учение Церкви, „quasi cattolica opinione“[23]. Если оно не выше Евангелия, то рядом с ним[24]. К „Аду“ и здесь ближе „Пир“, чем это кажется на первый взгляд. Внутреннее зодчество „Ада“ – усиление казней по нисходящим кругам – соответствует не Нагорной проповеди, а „Этике“ Аристотеля. Очень знаменательна в устах Виргилия ссылка на Аристотелеву – Дантову „Этику“:
Или не помнишь ты тех мудрых слов,Какими Этика твоя определяетТри состояния души, враждебных Богу?[25]Не только, впрочем, у грешного Данте, но и у святого Фомы Аквинского, великого столпа католической Церкви, – тот же уклон мысли – от Христа к Аристотелю[26]. Здесь, может быть, отшатнулся бы св. Франциск Ассизский и от св. Фомы, с таким же ужасом, как от грешного Данте.
* * *Сторожу земного рая в Чистилище, самоубийце Катону, говорит Виргилий о Данте:
Свободы ищет он, – сколь драгоценной, —Ты, жизнь отдавший за свободу, знаешь[27].Вечно будет людям памятна «жертва несказанная суровейшего подвижника свободы, Марка Катона... Чтобы в мире зажечь к ней любовь, он лучше хотел умереть, чем жить рабом»[28]. – «О, святейший дух Катона! кто посмел бы о тебе говорить?»[29] – «В ком из людей образ Божий явлен больше, чем в Катоне?» – скажет Данте, в «Пире», забыв о христианских святых и подвижниках так, как будто никогда никакого христианства и на свете не было.
Первого учителя безбожного и богопротивного знания, Аверроэса, обличавшего «Трех Обманщиков», Моисея, Христа, Магомета[30] и «лаявшего на Господа, как бешеный пес»[31], Данте увидит, вместе с Орфеем, Эмпедоклом, Сократом, Сенекой и другими великими учителями древности, в ясной области Лимбов, Элизиуме святых язычников:
Там, на лугу, зеленом и цветущем,Мужи с медлительным и важным взором,В чьих лицах был великой власти признак,Беседовали в сладкой тишине[32].Церковью осужденный за ересь ученик Аверроэса – Антихриста, теолог Сигер Брабантский (1226—1284), начал первый учить в Париже, на улице Соломы, близ Сорбонны, где Данте мог слышать его, – о двух несоединимо-параллельных путях Веры и Знания, доказывая в блестящей игре силлогизмов, что бытие Бога, загробную жизнь, Искупление и прочие святейшие истины веры он вынужден принять, как христианин, но должен отвергнуть, как философ[33]. Данте увидит его в четвертом небе Солнца, в сонме великих учителей Церкви, рядом с обличавшим его в ереси, св. Фомой Аквинским; тот на него Данте и укажет:
То пламя вечное – душа Сигера,Который зависть в людях возбуждал,Когда учил на улице Соломы,Глубоким истинам в искусных силлогизмах[34].В той же игре силлогизмов не менее искусный игрок, «один из черных херувимов», мог бы напомнить Сигеру и ученику его, Данте:
...А я ведь тоже логик, —Ты этого не знал?[35]Наша природа человеческая в корне зла, потому что искажена первородным грехом, – учит св. Августин. «Наша природа человеческая в корне добра, la nostra buona natura», – учит, вместе с ересиархом Пелагием, злейшим врагом Августина, Данте в «Пире», где как будто нет вовсе ни первородного греха, ни ада, ни дьявола, а следовательно, как будто нет и Искупления[36]. Вся природа, не только человеческая, но и стихийная, – такая же «Милосердная Дама», Donna pietosa, для Данте, как и наука о природе, философия. Только в «Чистилище» превратится эта «Милосердная Дама» в беспощадную, «Каменную», Donna pietrosa, – в «древнюю ведьму», Сирену-обманщицу:
«Я – сладостно поющая Сирена,Манящая пловцов на ложный путь,Кто полюбил меня, тот скоро не разлюбит.Так чар моих могущественна власть!»Еще уста поющей не сомкнулись,Когда явилась мне Жена Святая, —Беатриче – Вера, обличительница ложного Знания, —
И, разодрав ей спереди одежду,Мне показала чрево той нечистой,Откуда вышел смрад такой, что я проснулся[37].В благоуханиях Пира уснул, – проснулся от смрада в Аду.
«Тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь» учит Евангелие (Лк. 17, 14); путь пространен и врата широки – учит Пир. Кажется иногда, что Данте хочет здесь, освободившись от ада и чистилища, прямо войти в Рай Земной, о Рае Небесном вовсе не думая.
«В зрелом возрасте „человек должен раскрыться, как благоухающая роза“[38], а „в старости благословить пройденный путь... Смерть наша да будет безгорестна... Как спелое яблоко падает с ветки само, не будучи сорвано... так душа должна отделиться от тела безболезненно“[39].
Dies irae, dies ilia – этого грозного напоминания Данте не слышит, на светлом Пире Знания, – услышит в темном аду Веры.
Что вкушается на пире, – «ангельский хлеб», или амброзия Олимпийских богов, или огненная пища титанов, или то волшебное, на кухне ведьм приготовленное снадобье, которое даст или не даст Фаусту, человеку и всему человечеству, вечную молодость, – это решит будущее; а пока ясно одно, – что начатый у Данте «пир» до наших дней продолжается, и что если бы довести до конца то, что соблазняет Данте в «похоти знания»: «будете, как боги», – то этим концом была бы наша воля к познанию, как «воля к могуществу». – «Духом божеской, титанической гордости возвеличится человек... и явится Человекобог. Ежечасно побеждая, уже без границ, всю природу волею своею и наукою, человек... будет ощущать наслаждение столь высокое, что оно заменит ему все прежние упования наслаждений небесных», – предскажет этот желанный или страшный конец веселого Дантова пира Достоевский[40]; а за пятнадцать веков до него св. Августин уже предсказал: «Чем я хотел уподобиться Тебе, Господи, хотя бы превратно? Не тем ли, что мне было сладко преступать закон... и, будучи рабом, казаться свободным... в темном подобии всемогущества Божия, tenebrosa omnipotentiae similitudine?»[41]



