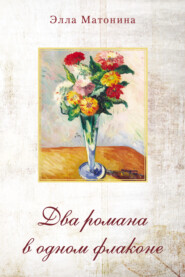
Полная версия:
Два романа в одном флаконе
– Саша, хватит. На тебя плохо действует приезд художественников. Бередит душу.
– Но что делать! Будущее ни для кого не существует в определенной форме. Это так – фигура речи, призрак мысли. А в прошлом должен быть ясный, логичный узор. МХТ приехал… Привез мой режиссерский спектакль «Царя Федора». А тайна остается тайной. Кто не хотел моего пребывания в театре? Немирович или Савва Морозов?… Или Книппер?
– Думаю, что твоим злым гением в Художественном был Немирович. Станиславский относился к тебе прекрасно, но отстоять не мог, Немировичу не нужен был еще один сильный самостоятельный режиссер. Он сам себе барин. Книппер оберегала Антона Павловича от меня. Остаешься ты – мелькаю на глазах пайщика театра Чехова и я. Но это все приблизительно. Все были молодые, горячие, честолюбивые, все хотели лучшего… Искусство – всегда дело всей личности, поэтому оно всегда трагично…
Глава 20
За четыре сезона он был в подручных Станиславского, его сорежиссером в восьми спектаклях. Самостоятельный поставил лишь один. Он устал от черновой работы. Потом театроведы напишут, что чрезмерная эксплуатация таланта при недовоплощенности творческой – опасна. Это вело к тотальному отказу от собственной личности. Ударом для самолюбивого Санина стало и то, что его не сделали пайщиком созданного в театре «Товарищества». Его, одного из создателей МХТ! Кстати, Чехов по этому поводу писал, что надо было делать пайщиком всякого желающего из тех, кто служил в театре с самого начала, что нельзя обижать одних и гладить по готовке других, когда нет поводов к тому.
Ему и сейчас, когда Чехова в этом мире нет, неловко за горькую, неприличную обнаженность своей души в письме к нему: «Кончаем второй сезон. Успех и нравственный и материальный очень большой… А я тоскую. Как режиссеру и актеру пришлось на мою долю дело небольшое. Такая была жажда деятельности живой, трепетной, мысль зажигающей – и осталась жажда эта неудовлетворенной. С другой стороны, жажда личного счастья, пустота души, потребности любви и привязанности – это другая незадача моего существования…»
– Но, Саша, прошлое всегда вариантно! Не ушел бы ты – были бы мы вместе?!
Он очнулся и посмотрел на жену. Склонилась над своим вышиванием «крестиками» и взглядывает на него – смущенно и лукаво.
Господи, как Ты справедливо меришь и горе, и радость. Не даешь упасть совсем. А он ведь почти упал. То, чем жил, что создавал, – свой любимый театр – самолюбиво, не без надрыва душевного оставил, ушел из него. Похоронил отца и мать, сестра любимая – умна, но душу ранит порой жестоко и умной иронией, и справедливым прозрением…
И вдруг этот экзамен в театре, он в комиссии, среди поступающих вполне и давно знакомая женщина, ей лет тридцать, нелепо читает… нет, было нелепо давать ей эти куски из Чехова. Немирович куражился. А она – смущенная, трогательная и немыслимо красивая. Он подумал… подумал о ней как о своей жене.
– И почему так? – спросила она, выдернув оставшуюся зеленую нитку из иголки.
– А потому что один музыкант сказал, что мне открыты тайники человеческого сердца и это редкий дар. Вот так.
А один великий певец добавил: «Саша, ты словно был в моей душе, ты как тонко понял все, что я хотел сказать. Спасибо Господу Богу, наградившему тебя такой чуткой, талантливой душой…»
– Шаляпин…
– Ага. И Гречанинов… Но при чем здесь все, когда речь о тебе? И я совсем ни-че-го не понимал. Влюбился без ума и без разума. Знаешь, я так ждал этой поездки в Петербург! С гастролями. Мне казалось, что вдали от Москвы, где все у меня рухнуло, что-то начинается новое…
– И потому ты ко мне придирался, единственной из статисток. А я была как счастлива, что меня взяли в театр, пусть маленькой статисткой, пусть незаметной… А еще попросили играть за сценой «Венские вечера» Листа. Знаешь, у меня надежда появилась на какую-нибудь, пусть маленькую, роль… Ты ведь знаешь, как мне было плохо…
Сказать, что он знал – нельзя. Он слышал об этом краем уха. Рядом текла параллельная жизнь знакомой женщины, приятельницы его сестры. Все говорили о ее романе, трагическом романе. Постоянно соединяли ее имя с именем Чехова. То ли дружество, то ли длительная связь, то ли «свой человек» в семье. Увидев ее на том экзамене в школу МХТ, где она провалилась, он потом уговаривал членов комиссии взять ее прямо в театр статисткой – мол, она музыкальна, играет, прекрасно поет. И это пригодится. Она надеялась на роль в будущем, а он уже знал, что ее на второй сезон даже статисткой не возьмут. Деньги ей не платили и в первый сезон, что уж говорить о дальнейшем, пожалуй, и квартиру приличную не снимет.
Мог бы Чехов вступиться за нее, но, как говорила сестра Катя, «Казав пан – кожух дам, слово его тепло», то есть не вступился. У Кати вообще была какая-то неприязнь к известному писателю. «Все у него маленькие и гаденькие», – ворчала она. Да и знала она что-то такое, чего не знал брат. После женитьбы Чехова на Книппер она вздыхала, причитала и говорила, что ее подруга Лида Мизинова киснет, плохо выглядит, даже отвратительно! Жизнь проходит мимо нее, и она уезжает в деревню…
– Ты помнишь, как ты бегал ко мне в «мухоловке», ну, в гостинице Мухина, на углу Мойки, и Книппер ничего не понимала и следила? Как-то мы стоим у подъезда, ты без пальто, а был март, свежий воздух, ветер, холодное солнце, я тебя отсылаю в номер, а ты не идешь. И мы смеемся, толкаемся… Я подняла голову, а в окне Книппер и Бутова. Мы ведь все в одной гостинице жили, когда приехал Художественный театр из Москвы на гастроли в Петербург.
– Ах, если бы ты знала, с каким восторгом я шел в те дни на сцену. Ты там была. Я своего «благородного старца – эстетика» играл для тебя. А ты, надо полагать, думала, что Санин старается для императорской семьи, сидящей в зале. Конечно, и для нее старался. Но ты была моим воодушевлением. Немирович в долгу перед тобой – платить обязан тебе – причине успеха его пьесы «В мечтах». Но эта элегантная лиса с коммерческим талантом только в наших мечтах может разориться на благодарственный подарок.
– Ах, пусть оставит его себе. Если серьезно, Саша, я, такая бесхарактерная и несамолюбивая, вдруг очень тяжело пережила одну историю на ужине в ресторане «Эрмитаж» после премьеры. Я тебе никогда ничего не говорила, было стыдно. Так вот. Мне хотелось раз и навсегда определить наши отношения с Ольгой Книппер. Сделать их дружескими, приязненными. Ты понимаешь почему. Я ей предложила выпить брудершафт. Она в присутствии всех актеров холодно и громко мне отказала. В ее лице было столько отчуждения и антипатии…
Я долго помнила это выражение… Она, наверное, Антону Павловичу об этом рассказала. И я жалко выглядела в его глазах…
Лидия Стахиевна разгладила руками вышивку и замерла, а потом совсем тихо сказала:
– Герцогиня Альба, которую писал Гойя, однажды заметила: когда мужчина вдруг говорит нравившейся ему женщине, что она интересная, но уже не говорит, что она очаровательная, упоительная, восхитительная, божественная, – значит, всему конец. В последнем письме Антон Павлович написал мне: «В письмах, как и в жизни, Вы очень интересная женщина». Быть может, Ольге Леонардовне нужен был этот аргумент?
Санин смотрел на жену. Дошли ли до нее слухи о более неприятном – о прогнозах Чехова по поводу их женитьбы: что Лидуше будет с ним нехорошо, что она его не полюбит, не сможет ладить с его сестрой, через полтора года станет изменять ему?
Он никогда об этом не спрашивал и никогда не спросит…
– Саша, я люблю тебя, – сказала Лидия Стахиевна, испугавшись долгого молчания мужа. – Знаешь, что я маме тогда написала? Могу повторить наизусть, ну почти наизусть: «Когда ты увидишь его, то полюбишь, как меня, за всю его безграничную, хорошую и высокую любовь ко мне – любовь, которая не только все прощает, – даже и речи нет об этом, а относится с уважением ко всему, что было, я счастлива так, что иногда не верю, что все это не сон!»
Значит, она не принимала его слова за риторику?! Он всегда боялся своего многословия, вычурности своих выражений. «Моя гордость и радость, мой разум и сердце, безумно горжусь твоей красотой и нежностью, мое сумасшествие, моя поэзия, моя жизнь, мое дыхание», – так он писал ей, так говорил. Она все поняла правильно, она поверила истинности каждого слова, потому что впервые ее увидели не только на редкость красивой, но и серьезной, умной, хозяйственной, светской, заботливой, доброй и художественно талантливой. Ее полюбили все: брат Дмитрий, умная, строгая его сестра Екатерина приняла Лидию без всяких оглядок, без всякой ревности, и свойственной ей иронии и насмешкам не было места в суждениях о «дорогих» Саниных.
Оставаясь в Москве в то время, когда Санины были уже в Петербурге, она писала Татьяне Куперник: «…я не живу у моих Саниных, хотя нежно их люблю и чувствую себя там удивительно хорошо. Танечка, когда тебе тяжело, пойди к Лиде и просто скажи ей, каково тебе. Ты знаешь ее золотое сердце. Она сумеет тебя приласкать… А как у них писать хорошо. У Саши огромный стол, светлая лампа… Это прекрасное существо – мой Пуш, моя Лиля, которую ты так удачно сравнила с царевной из русской сказки». Екатерина скучала по брату и по Лидиной «свирепой ласковости». Кстати, Лика Мизинова снова стала Лидой, Лидочкой, Лидушей, как ее звали с детства в родном доме и стали звать в новой ее семье.
Глава 21
Началась новая жизнь в блестящем Петербурге. Санину казалось все вокруг холодным и пустынным. Но Лидия Стахиевна избавила его от этого ощущения. Появились знакомые, старые и новые друзья. Жили Санины открыто и гостеприимно, и потянулись к ним люди. Конечно, не рвалась дружба с Михаилом Павловичем Чеховым. Жил он в большой квартире на Каменноостровском проспекте. Был очень трудолюбивым и предприимчивым, с большой фантазией. У Чеховых любили встречать Новый год и обыкновенно собирались на именины Михаила Павловича. Детям разрешалось побыть с гостями, помогать накрывать стол. Появлялась кругленькая, как шарик, Татьяна Львовна Щепкина-Куперник, подносила все время к прищуренным глазам лорнет, читала шуточные поздравления.
Он засмеялся:
– Лучше скажи, почему у нас так много людей собиралось в доме? Всех помню – и Кугеля, и Волынского, этих жадных до потравы критиков. Но справедливых. И Крандиевских, и особенно Ходотова. Он часто у вас бывал на Екатерининской улице и, по-моему, вам с Катей нравился. Прекрасный актер, а как играл на гитаре, как пел! И надо же, соединял в себе амплуа «героя-неврастеника» и «простака-любовника». Вижу как сейчас – и Немировича, и Антона Павловича, и блистательную Марию Гавриловну Савину – все у нас бывали. Но яснее всего вижу Пасху в первую нашу петербургскую весну. Это был самый светлый праздник в нашем с тобой доме.
Лидия Стахиевна улыбнулась благодарно. Она знала, как она старалась создать петербургский дом, достойный положения и репутации мужа.
Глава 22
Репутация добывалась трудно. В Императорском театре все было устоявшимся, отмеренным и казенным. О нарушениях и изменениях думать было опасно. Но необходимо. Это чувствовала даже Дирекция Императорских театров. И понимала, что обновление Александринки в руках режиссера с новым пониманием современной театральной жизни. Но как одолеть все эти культы, сложившиеся в казенном театре, – премьерство, шаблонные устаревшие, «накатанные» методы исполнения, репертуар, диктуемый коммерческими выгодами? Как найти понимание главной силы любого театра – актера? А в Александрийском театре работали великие актеры. Поймут ли они пришлого «станиславщика»? Он, владея теперь не малой властью ученика, а властью Мастера, хотел самостоятельно поставить пьесу, создав в спектакле актерский ансамбль, что было ново для Петербургского театра, где великий актер властвовал на сцене, как царь, остальные актеры были в прислужниках. Режиссерским дебютом Санина стала трудная в постановочном отношении пьеса Островского «Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский». Так приказало начальство. По свидетельству участника события, выдающегося русско-советского актера Юрия Юрьева, «пьеса дала ему возможность во всю ширь развернуть свою режиссерскую индивидуальность – яркую, сильную, особенно по тому времени, когда мы еще не были избалованы режиссурой».
Пьеса имела шумный успех.
Вскоре состоялась премьера спектакля «Победа». Она и решила судьбу странного в стенах Александринки режиссера. Самые великие актеры этого знаменитого театра приняли и оценили его талант и жертвенность во имя искусства.
Художественный театр чутко и ревниво прислушивался к тому, что происходило в столице. И нашел в его работе многое из того, чему Санин обучался в его недрах.
Петербург сознался в своих грехах и в том, что Санин «сделал смелый для александрийской рутины шаг вперед». Станиславский из Москвы поздравил режиссера.
С тех пор всю свою жизнь Александр Акимович старался не держать обиду на МХТ. Стало тесно, душно, а «силушки по жилочкам так и переливались» – ушел сам в 1902 году. «Это год и женитьбы моей – очень счастливой и светлой». Говорил так, потому что знал: ничто новое не бывает полноценным на душевных развалинах старого. Потому и письмо оставил Станиславскому в парижской гостинице.
Продолжением побед в Петербурге стало приглашение в Париж. Санин не отказался. А Лидия Стахиевна была счастлива видеть успехи мужа.
Глава 23
Зная драматические работы Санина, Сергей Дягилев понял, что аппетит этого могучего режиссера удовлетворит лишь мощное оперное искусство, где в гармонии должны слиться вокал, музыка, лицедейство, хоровая стихия. Дягилев, красавец, талант, потрясающий организатор, двинулся на Запад пропагандировать русское искусство. Знаменитые «Русские сезоны» в Париже и Лондоне он начал в 1908 году. Сохранилась фотография: у открытого низкого окна европейского поезда Берлин – Париж стоят Санины. Им под сорок лет. Лидия Стахиевна в большой шляпе (какие порицали Чехов и Книппер), кажется, с перьями. Очень красива. Александр Акимович с круглым полным лицом, шляпа съехала, а может, так надел, набок. Он встревожен и напряжен. «Станиславщик», «мхатовец» боялся предстоящей работы в Европе, в Гранд-опера.
Они задержались в Берлине, потом в Кельне, где «ходили среди готики как зачарованные». Но Париж надвигался – странный, волшебный город, который, не видав, уже знаешь. Его улицы, площади, знаменитые кварталы, знаменитые театры, знаменитые имена. «Оглушен, ошеломлен, – голову потерял», – напишет он Савиной из Парижа. Самоуверенно сказанное в России: «Я верю в успех – слишком гениальна опера “Борис Годунов”», – вдруг смутило его в Париже. Перед ним была стена, оплетенная инерцией, привычкой, отсутствием энтузиазма, инициативы, душевного всплеска (это оставалось премьерам), спесью и уверенностью в непогрешимость известного театра Европы.
Желания и надежды Лидии Стахиевны показать мужу Париж не оправдались. Времени на прогулки у него не было. Он ушел с головой в подготовительные работы, ждал Шаляпина, который ехал в Париж с Капри, чтобы исполнить партию Бориса Годунова. Лидия Стахиевна же окунулась в боль и щемящие воспоминания. По прихоти неведомых сил, этот город стал частью ее судьбы, все смешав в ней. Сейчас был май, он ослеплял солнцем, сбрызгивал мелким дождичком, и все ворошил в душе и памяти. Она навещала «свои» улицы, дома, подъезды. Поднималась по крутым лестницам, чтобы постоять у двери, за которой когда-то билось ее сердце в ожидании знакомых шагов. Но шаги Игнатия Потапенко звучали в те дни все реже и реже. «Не герой, он не герой», – повторяла уныло Лика Мизинова название самого популярного романа Потапенко. Все серьезные и полезные занятия стали ей неинтересны. Правда, брала уроки пения, чтобы стать великой певицей, но опять же ради него. Он бросил ее. Родившуюся девочку Лика отвезла в Россию.
Она вспомнила растерянные лица матери – Лидии Александровны, бабушки – Софьи Михайловны и тети – Серафимы Александровны, когда она предстала перед ними с «незаконнорожденной» дочерью. «Лидуша похоронила мать», – записала бабушка в своем ежедневнике. А Лидуше нужно было искать квартиру, работу, чтобы выплачивать деньги на содержание дочери, которую она отправила в тверское имение родственников – Покровское.
Как это и бывает, если речь идет о ребенке, – все сплетни, условности, разговоры были забыты, и в малышке все души не чаяли. И все же не сберегли: Христина умерла от воспаления легких.
Лидия Стахиевна остановилась на крутой ступени, пытаясь успокоить сердце. «У меня есть эта фотография: Христина не в гробу, а на кроватке, будто спит – длинные волнистые волосы, в меня пошла, и личико… его черты… Но есть и другая фотография…» Она тихо, погрузившись в себя, улыбнулась: в Покровском, на солнечной поляне, они с малышкой в густой траве, девочка делает первые шаги в длинном белом платьице-рубашке.
Тогда от тоски и мучений спас ее Савва Иванович Мамонтов. Удивительный человек, в котором была, как говорил Васнецов, какая-то электрическая струна, зажигающая энергию окружающих. Невысокий, плотный, с портфелем в руках. Одни называли Мамонтова замечательным, пленительным, загадочным, другие – аферистом, чудаком, игроком. А он знай делал свое дело, и все для России: провел железную дорогу на Север, в Архангельск и в Мурман для выхода к океану холодных широт, соединил железной дорогой донецкие угольные копи с центром. Он строил железные дороги, а мечтал стать певцом, прошел в Италии солидную музыкальную подготовку. Однако миллионное дело Мамонтовых потребовало хозяина.
В Савве Ивановиче было много талантов – скульптор, режиссер, драматург. А главное, это был человек хорошего, тонкого вкуса. Меценатствуя в области оперы, он создал первый в России частный оперный театр. В его доме на Садовой у Красных ворот находили приют художники, скульпторы, артисты, меценаты, певцы. Там бывала и Лика Мизинова. И всем он мог дать совет – по вопросу грима, жеста, костюма, пения, создания сценического образа, колорита, мазка на холсте.
– Не останавливайтесь, Феденька, у этих картин, – говорил он Шаляпину. – Это все плохие.
И показывал «Принцессу Грезу» Врубеля:
– Вещь замечательная. Чувство в картине большое!
Он собрал вокруг своего театра исключительно талантливых художников. Декорации писали Серов, Левитан, братья Васнецовы, Коровин, Поленов, Остроухое, Врубель. Савва Иванович поддержал яркого, сильного Малявина, поставил в своем театре с огромным успехом «Садко» Римского-Корсакова, побудил композитора к написанию «Царской невесты», «Царя Салтана», помог раскрыться могучему дару Шаляпина, популяризовал забракованного «знатоками» великого Мусоргского (которого сейчас Санин приехал показать Парижу).
Все, что бы ни делал Мамонтов, тайно руководствовалось жаждой искусства и красоты. Даже из его важного толстого портфеля сыпались гравюры, живописные эскизы, наброски костюмов, ноты…
Он всегда искал и находил. Нашел и Лидию Мизинову, красавицу с превосходным голосом. И как свою стипендиантку вместе с известными в будущем певцами В. Эберле, П. Мельниковым, В. Шкафером отправил учиться в Париж.
Глава 24
Прошло десять лет. До замужества, быть может, для нее самое счастливое по материальной независимости и занятию любимым делом время. В красивые октябрьские не холодные дни в душевном умиротворении она отправила Чехову свою фотографию с надписью на обороте:
«Дорогому Антону Павловичу на добрую память о воспоминании хороших отношений. Лика.
Будут ли дни мои ясны,Скоро ли сгину я, жизнь погубя, —Знаю одно, что до самой могилыПомыслы, чувства, и песни, и силы —Все для тебя!Пусть эта надпись Вас скомпрометирует, я буду рада. Париж, 11 октября 1898 года.
Я могла написать это восемь лет тому назад, а пишу сейчас и напишу через 10 лет».
И хотя по-женски кокетливо и избалованно звучит приписка «пусть надпись Вас скомпрометирует», в долгом ее обмене письмами с Чеховым это самое емкое письмо. Лики, которая существовала до романа с Потапенко и смерти дочери, больше нет. Нет Лики, которая была поглощена собственной молодостью и, конечно, видела в ней источник драматических, лирических переживаний, предавалась безделью, скуке и слезам. Теперь ее жизнь не просто смена отдельных ощущений, волнения от выражения глаз, ласковых слов, жестов, гуляний, прозвучавшего романса. Появилась спокойная привязанность, нежность, душевная потребность в любовной дружбе. Как это ни странно звучит, она видела в Чехове и отца, и любимого мужчину. «Чуждый возрасту, родился сорокалетним и умер сорокалетним, как бы в собственном зените», – отметят современники.
Но все это в прошлом, и она писала в Россию: «Я наслаждаюсь Парижем, моим Парижем. Веселый, безумный Париж на меня действует совсем особенно. Во мне он пробуждает массу лиризма, я становлюсь даже сентиментальна. Хожу по своим старым местам и радуюсь, когда вижу прежнюю вывеску… Но… я многого не нахожу, и мне это больно, точно нет кусочка меня самой».
И все же это была не тоска о прошлом. Скорее медленное «перетекание» прошлого в счастливое настоящее.
Глава 25
Время Саниных проходило в разночтении: возможные для Лидии Стахиевны прогулки и невозможные для Александра Акимовича. Вернее, урезанные, соединенные с посещением театров. «Для поучения», говаривал этот признанный в России режиссер. Был он, конечно, в знаменитом театре Comedie Francaise. «Увы! Это уже явление историческое, и усмешка ядовитого Вольтера в фойе, и бюсты всех корифеев литературы». Он считал, что Франция после революции правомерно родила актера-романтика, который умел свободно ходить, драпироваться красиво в плащ, носить шпагу, быть «чертом», говорить с улыбкой правду царям. Но наступили иные времена, считал Санин и бежал на «Молодежное ревю» в Олимпии. Но чаще поздние явления домой были связаны с затянувшимися репетициями. «Увы, этот негодяй сумел сделать так, что репетиции продолжаются сколько ему угодно – французские машинисты и рабочие сидят до конца, хлопают Сашу по плечу и делают все, что он хочет. А я-то тайно надеялась, что этого не будет и что дальше определенного часа не позволят оставаться в театре», – восхищенно ворчала Лидия Стахиевна в письмах в Москву.
Да, даже железный французский регламент не сработал. Санин всех обаял и загипнотизировал. Он приходил домой очень усталым. Она заглядывала ему в глаза.
– Ну что там?
– Да как обычно. Беспросветно. Знаешь, когда Сережа Дягилев кричал мне в Москве, что ничто не помешает проведению «Русских сезонов», что он увлечен этой идеей, потому что она блестяща, мне казалось: мы всех шапками закидаем.
– И закидаете. Есть ты, есть Федя Шаляпин, есть Собинов, есть, и это главное, Мусоргский. Мы, поющие и играющие, еще не поняли, какой это гений. Мне Федя говорил, что он как горе, настоящее, жизненное, переживал, что не застал Мусоргского в живых, когда появился в Петербурге. И он всегда хвалил Римского-Корсакова за его почти религиозную, святую работу над «Борисом Годуновым». Все ценное сохранив, Римский-Корсаков сократил оперу, иначе бы вы ее играли с четырех часов дня до трех часов ночи. Мусоргский писал всегда и всюду, на салфетках, счетах, на засаленных бумажках. Знаешь, Саша, я сейчас заплачу, но он ведь и представить себе не мог своего «Бориса», поставленным в Гранд-опера…
– Гранд-опера?! Дягилев мне рассказал, что, раздумывая над постановкой «Бориса», пошел в деревянный театр «Олимпия». Там давали «Бориса Годунова». Кое-как соединили множество музыкальных картин. Дали семь антрактов. И каждый раз, опуская занавес, рекламировали часы «Омега» и слабительные пилюли «Пинк». Соседи выводили своих толстых супруг на воздух отдохнуть, наступая на ноги, громко говоря, мешая сцене. И знаешь, все равно прорывались прекрасные музыкальные моменты этой музыки…
– Опера большая, «густая». Вам нужно думать об ее архитектуре.
– Умница ты моя и помощница. Знаешь, даже холодный, непробиваемый Рихард Вагнер, когда ставил здесь свою оперу «Тангейзер», специально для парижан в первое действие ввел балет и написал новое окончание увертюры.
Так каждый вечер они допоздна обсуждали то, к чему с утра приступал Санин. Объявления, афиши, рекламы, интервью сопровождали эту работу и напоминали о сроках. Один из дирижеров Гранд-опера сообщал французской публике: «Каждый год мы даем или русский сезон, или итальянский, или немецкий – иностранный, одним словом. Мы начнем с русских произведений. Опера “Борис Годунов” будет дана в мае силами труппы, которая в настоящее время играет в Москве, с Шаляпиным во главе, с хором, декорациями… Спектакли состоятся по вторникам, четвергам. Они находятся под высоким покровительством великого князя Владимира».
Глава 26
Все понимали, что постановка в Гранд-опера первой и бесконечно русской оперы – дело огромной важности, что русская музыка должна стать откровением для Запада. И потому стремились представить парижанам подлинную Русь конца XVI – начала XVII века. Дягилев изъездил Россию, собирая настоящие русские сарафаны, подлинный старинный русский бисер и старинные русские вышивки. Костюмы, декорации, бутафорию делали заново, так как декорации в театре всегда были театрально-условны, в них не было ни стиля, ни эпохи, ни этнографии.

