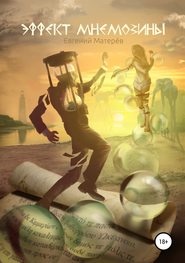 Полная версия
Полная версияЭффект Мнемозины
– Вы жили тут, в лагере?
– О, да! В палатках! Без надзора родителей. В быту сами всё делали; учились многому. Познавали свою будущую профессию, окружающих людей, себя. Мы ведь не только в земле копались. Нас возили на экскурсии; в свободное время занимались самодеятельностью. Влюблялись…
– Влюблялись?
Ольга Ивановна улыбнулась ещё шире – угадала, значит, что Сергей переспросит, заинтересуется:
– Влюблялись, Серёж.
– Что же в этой экспедиции делал отец? – Сергей тоже улыбнулся, предполагая, каким будет ответ.
– К счастью, это был не твой отец.
– Вот как! – деланно удивился Сергей. – Почему же – «к счастью»?
– Потому что на тот момент у нас бы не вышло построить семью. Первая любовь такая яркая, но часто недолговечная.
– Может быть, поэтому раскопки продвигаются не так быстро? – усмехнулся Сергей.
– Вполне возможно,– улыбнулась Ольга Ивановна. – Но лично у меня с этим было строго. Я была строга; к тому же увлечена любимым делом. Поэтому держала оборону от всяких там будущих палеонтологов и палеоботаников. Нужно быть таким же настойчивым, как твой отец, чтобы окольцевать меня.
– Только лишь настойчивым? – усомнился Сергей.
– Конечно же нет! У меня был ещё сто тридцать один пункт!
– И все они присутствуют в отце?
– Да!
– А когда вы познакомились?
– После практики! – засмеялась Ольга Ивановна.
– То есть не прошло и года, как ты стала готова для семейной жизни, – тоже посмеялся Сергей.
– А что мне оставалось делать?! Надо было брать такого молодца!
Сергей с матерью проходили дальше. Тропа петляла меж камней, часто раздваиваясь, предлагая пройтись либо выше, либо ниже – на выбор. Сделав наконец этот выбор, путник запоминает это место, говорит сам себе, что в следующий раз нужно будет пройти по верхней тропе. Но вот нижняя тропа тоже раздваивается. После нескольких развилок становится ясно, как бессмысленно это запоминание – всякий раз Джангуль будет представать перед тобой разными гранями: то, что ты проходишь сейчас, не повторится никогда.
– …Как вот археологи определяют то место, где нужно начать раскопки? – Помимо окружающих красот, путникам приходилось часто смотреть под ноги.
– По-разному, Серёж. Что-то находят с помощью исторических документов, что-то даже искать не нужно – уже известно давно… С помощью аэрофотосъёмки можно заметить нечто необычное в рельефе и потом провести археологическую разведку. Ведь чтобы получить открытый лист, то есть разрешение на ведение раскопок, ты должен обосновать – с чего ты решил, что тут надо копать? Когда, например, начали прорывать Крымский канал, то обоснования не требовались. Само собой подразумевалось, что при строительстве такого объекта вероятность наткнуться на что-нибудь ценное в нашем краю, густо покрытом курганами, очень велика.
Часто именно во время строительства, при рытье канав, котлованов, происходят случайные находки.
Поэтому тогда, можно сказать, плечом к плечу, вместе со строителями работали и археологи.
– Много было находок, да?
– Сроки сжатые; нужно было по мере возможности быстро вскрыть курганы, находящиеся в зоне строительства.
Увы, многие из них были уже разграблены ещё в древности. И всё же когда начали раскапывать Ногайчинский курган!.. – Ольга Ивановна не смогла удержаться, чтобы не поставить тут эффектную паузу. – Удача улыбнулась археологам – было найдено нетронутое захоронение.
– Там были найдены золотые украшения?
– Были найдены настоящие произведения искусства! – поправила его Ольга Ивановна. – Останки какой-то высокопоставленной женщины были окружены изделиями из золота, инкрустированными драгоценными камнями. Ты только представь себе тот трепет исследователей! По структуре почвы видно, что захоронение не разграблено – следы подкопов отсутствуют. Все в предвкушении; ждут, когда их мастерок наткнётся на что-нибудь.
Ольга Ивановна начала рассказывать так, чтобы у Сергея сложился эффект присутствия – «Оказывается, у мамы есть и актёрский дар!»
– …и вот от касаний щёток из земли явственно начинают проступать черты костяка и непонятных сначала предметов.
На земле вдруг образовалась трещинка – что-то сдвинулось под тонким слоем слежалой почвы. Археолог аккуратно подхватывает этот «осколок» и начинает обрабатывать его щёткой. Вскоре на его ладони засверкала золотая бляшка со звериным мотивом. Когда-то она была частью савана.
Счищая почву там, где должны находиться кисти, появляются венцы сосудов.
Стоп! Что это за еле заметное пятнышко?! Расчищаем вокруг, стараясь уяснить его границы. Но, похоже, это пятнышко само – граница чего-то! Так и есть – судя по всему, это давно истлевшая шкатулка.
Нужно замерить и поместить на план.
Яркая вспышка фотоаппарата озарила раскоп.
Шкатулка была небольшая – её содержимое вскоре обнажилось перед участниками экспедиции. Застёжка, перстни, подвески…
Словно призрак, проплыло перед глазами исследователей хрустальное тельце дельфина с золотыми головой и хвостом – такую вот изящную заколку сотворил неведомый мастер.
А новое время продолжает разрушать спрессованное старое – археологи подбираются к тому, что вечно, – к золоту. Оно особенно свежо смотрится на фоне тронутого тленом черепа.
Обнажаются новые сокровища.
Золотые спирали на диадеме и гривне напоминают горный серпантин, на котором расположились крылатые грифоны – охранники вечной жизни. Эти украшения в прошлом придавали своей хозяйке царственный вид и гордую осанку.
Потрясающей красоты серьги носила покойная; какая тонкая, изящная работа! Серьги напоминают индейские талисманы – ловец снов. Только вместо оленьих жил – тонкой работы золотая оправа для зелёных очей изумрудов и полосатых агатов. Золотые подвески под оправой невесомы, как перья – с трепетом касались когда-то девичьей шеи. Тонкие цепочки, словно струи водопада, наполняют висящий на них же кувшин.
Золотым цветком распустилась брошь там, где раньше билось сердце. На её лепестках застыли капли из драгоценных камней.
На запястье у царственной особы жемчужные браслеты, напоминающие о мифе про Эроса и Психею.
На ногах тоже браслеты, но уже спиральные – словно змеи обвили щиколотки.
А работа продолжается. Из-под щетин кисточки выкатываются бусы. Грани бальзамария и тарелки показываются на поверхности. Рядом с бронзовым зеркалом кладут масштабную линейку, и раскоп вновь озаряется мертвенным светом вспышки фотоаппарата.
Последние слова Ольга Ивановна произнесла так, будто закончила читать книгу.
– Что это было, мам? – улыбнулся Сергей.
– Урок актёрского мастерства!
– У тебя получилось! Создалось впечатление, что я тоже с тобой там присутствовал.
– Эх! – вздохнула актриса. – Если бы и мне довелось там присутствовать…
– Да уж. Азартная работёнка…
– В нашем деле, конечно, есть элемент азарта, но его сдерживает научная необходимость. Мы же не чёрные копатели; археологу важно не просто добыть артефакты, но и прочесть информацию, какую они несут.
Поэтому как бы тебя ни подмывало поскорее добраться до объекта, важно соблюдать последовательность раскопок. А это не так быстро происходит. И для каждого случая нужно придумывать свою технологию – не всё же можно подогнать под инструкции. Главное – не повредить информацию. В этом и заключается творческое начало нашей профессии.
Мы этакие детективы, собирающие информацию по крупицам. Кто похоронен в Ногайчинском кургане? Её имя? Каков статус? Время захоронения? Обстоятельства?
Всё это можно вполне узнать, датировав захоронение, проанализировав погребальный обряд, найденные вещи и перелопатив кучу исторических свидетельств.
– Узнали?
– Есть две основные версии. Основой для первой версии служит труд Аппиана – «Митридатовы войны». Из него можно узнать, что, готовясь к военному походу, Митридат Евпатор заключил союз со скифами. Чтобы союз был крепок, он выдал свою дочь замуж за скифского царя. На эту версию косвенно указывает сопоставление некоторых исторических событий и состав украшений. Особенно на неё наталкивают браслеты с мотивами мифа про Психею и Эроса.
Вторая версия основана на рассказе Полиэна – «Стратигема». Писатель, творивший во втором веке до нашей эры, пишет, как херсонеситы позвали к себе в союзники сарматскую царицу, чтобы та помогла им защитить их полис от скифских набегов.
Сначала она хотела уладить конфликт дипломатически – не получилось. Тогда с небольшим отрядом Амага проникла в Неаполь Скифский и учинила расправу над местным царём, отнёсшимся с пренебрежением к её мирным предложениям. Править Амага поставила его сына, внушив, чтобы тот больше никого не притеснял.
Вот так, Серёжа; выбирай – какая тебе дама больше нравится.
– Обе хороши, – улыбнулся он. – Да уж. Есть вам над чем головы ломать.
– Археология не стоит на месте; каждый год богат на находки. Ширится база данных, уточняется время многих событий и находок, совершенствуется методология датировки.
Основное в археологии – это, конечно, датировка. Из-за этого весь сыр-бор. Каждый найденный объект должен быть привязан к тому культурному слою, в котором он найден. Поэтому всё тщательно фиксируется, обмеряется, зарисовывается, фотографируется, снимается. Ведь с каждым шагом раскоп изменяется – прежнего вида ему не вернёшь, не отмотаешь назад. Твоя находка может передвинуть по времени исторические события – дать совершенно иную интерпретацию.
Учёное сообщество недоверчиво: будут интересоваться, каким образом ты дошёл до этой информации, нет ли ошибки.
Сначала ты рыл, а потом до тебя будут докапываться. На основе твоей обстоятельности, щепетильности и строится твоя репутация. Долгие годы можно себе её создавать, а потерять можешь в один момент.
Поэтому главная цель археолога – создать как можно более полную трёхмерную картину раскапываемого объекта с проекцией на неё культурных слоёв и их дефектов.
Всё, что будет найдено, должно подвергнуться анализу, включая саму почву. Неслучайно плечом к плечу с археологом работает множество специалистов узкого профиля, например, палеоботаники, палеозоологи, антропологи, почвоведы…
Один воссоздаёт растительный мир того времени, другой воссоздаёт животный мир. Антрополог исследует костяки на предмет болезней, повреждений, операций и деформаций. При раскопках некрополей собирается статистическая информация, дающая представление о продолжительности жизни, о факторах риска…
Вот какие данные можно извлечь, Серёж. Даже земля, прежде чем она попадёт в отвал, просеивается, а если понадобится, то и промывается водой. Так можно отыскать семена растений, отпечатки на глине, мелкие фракции – вот она, пища для размышлений палеоботаников и почвоведов.
– Да, – протянул Сергей. – Не всё так просто. И вместе с тем очень интересно…
Сергей с Ольгой Ивановной проходили всё дальше. Извилистая тропа поднялась вверх, обошла стороной большой останец и круто ушла вниз. Сергей помог матери спуститься.
– Хорошо. Мне дали добро на раскопки – смог я доказать, что тут надо непременно копать. Дальше что? Приезжаю я на место и?..
– …Достаёшь свой полевой дневник и описываешь местность, – закончила за Сергея Ольга Ивановна. – Обязательно указываешь повреждения почвы, осыпи, следы старых раскопов, деревья, кустарники. Что-то фотографируешь, зарисовываешь, снимаешь на видео…
Затем расчищаешь место будущего раскопа от растительности, мусора, размечаешь место, разделяешь его на квадраты. Между квадратами оставляешь узкие участки – бровки; они как рамы в окне. По этим бровкам нам будет видно стратиграфию – взаимное расположение всех культурных слоёв.
Потом нивелировка, установка реперов…
Сергею снова нужно было подать Ольге Ивановне руку:
– Чего устанавливают?
– Реперные пункты – это точки, от которых начинается твоя система координат. Это и колышки, временно вбитые, разделяющие место раскопа на равные квадраты, и выход скальных пород, и долговременные пункты, например – геодезические знаки. Они нужны для географической привязки будущих находок.
Вот… Нивелируешь, то есть заносишь на бумагу все перепады высот, чтобы у тебя был виртуально сохранён рельеф участка… Берёшь лопату, и вперёд, с песней. Слой за слоем, слой за слоем.
Любое изменение в слоях заносится на план; даже норы мышей, кротов – они могут переносить артефакты.
По изменяющейся структуре почвы можно заранее увидеть – разграблен ли памятник и когда это случилось. Не говоря уже о том, что изменения сигнализируют о близости искомого.
– Как я узнаю, к какому времени принадлежит тот или иной слой?
– По анализу своих находок. Если ты нашёл кость и она со всех сторон окружена однородной массой, то после радиоуглеродного анализа можно датировать этот слой. С помощью радиоуглеродного анализа – об этом способе слышал любой, даже малосведущий в археологии человек – можно датировать любую органику.
Ольга Ивановна увидела, что сын хочет задать вопрос, и сразу поняла, о чём он будет. Она положила ему свою руку на плечо и, улыбнувшись, продолжила:
– В каждом живом организме присутствует изотоп углерода, с атомным весом четырнадцать. Пока организм живёт, количество этого углерода в нём постоянно, потому что всё время восполняется извне. Но как только организм умирает, обмен веществ прекращается и начинается распад изотопа.
Сравнив активность найденного изотопа с активностью современного, можно вычислить дату смерти нашего ископаемого образца.
– Так всё просто?!
– Да, просто. Но не обошлось и без закавыки. Дело в том, что концентрация углерода четырнадцатого в атмосфере в разные времена была разной. И как прикажете считать?
– Как вообще догадались, что этого углерода была разная концентрация?
– Данные не стыковались меж собой. Очень много было странностей и, соответственно, много вопросов и недоверия к методу. Некоторые и в наши дни в сомнениях пребывают, – улыбнулась Ольга Ивановна.
– Я думаю, нашли выход из положения?
– Нашли! К счастью, на планете есть ещё реликтовые деревья, возрастом больше четырёх тысяч лет! А в одном месте Калифорнии их не просто два-три дерева, а целая роща!
Остистые сосны растут в экстремальных условиях. Они забрались в очень ветреную и суровую горную страну со скудными почвами. Поэтому росли они очень медленно – этот факт им послужил в плюс: древесина получилась настолько плотной, что никакие вредители им не страшны – все зубы пообламывали. А высокая её смолистость позволила сохранить для учёных эти бесценные скрижали.
О чём нам могут рассказать годовые кольца деревьев? О возрасте дерева, о климате, о ветрах, о пожарах, о сходах лавин и селей…
– О содержании изотопов, – окончил за Ольгу Ивановну Сергей.
– Да, – кивнула она. – Собрав обширный материал и проанализировав его, учёные составили не только дендрошкалу протяжённостью более семи тысяч лет, но и смогли показать, как менялась концентрация углерода в атмосфере.
– Дендрошкала? – вопросительно взглянул на рассказчицу Сергей.
– Это совокупность годовых колец деревьев, живших в одной местности, но в разные времена.
Одно дерево, допустим, росло тысячу лет. А рядышком с ним растёт новое дерево, возрастом в сто лет. То, первое дерево отмерло, но дендрошкала продолжает наращиваться во втором: если состыковать их шкалы, то увидим – параметры последних годовых колец первого дерева совпадают с параметрами первых годовых колец второго дерева.
Эта преемственность и есть – дендрохронологическая шкала. Для её пополнения специальные экспедиции отправляют в леса. Да и мы, археологи, пополняем, Серёж.
– Зачем?
– Как зачем? Чтобы датировать постройки. Существуют базы данных, в которых хранятся так называемые керны – цилиндрические образцы древесины, взятые откуда угодно – как повезёт. Это могут быть фундаменты, стены домов, землянок, сваи, остатки древних кораблей. И хорошо бы привязать найденный образец к какому-нибудь историческому событию, про которое известно точно – когда оно произошло. Тогда этот кусочек древесины занимает своё определённое место на временной шкале.
Сергей задумался – всё это очень любопытно!
– Но не может ли найденный образец совпасть со шкалой другого времени?
– Исключено: рисунок годовых колец уникален, как отпечатки пальцев у людей. Тем более учитываются дополнительные данные колец, а не только их длина и взаиморасположение. Развитие техники не стоит на месте. Чего стоит только масс-спектрометр!
– Да. В любой профессии свои хитрости, – покачал головой Сергей. – И правда: детективы какие-то!
– Палеодетективы, – улыбнулась Ольга Ивановна. – Датировка артефактов похожа на работу археологов в раскопе. Только одни очищают найденное от земли, а другие избавляют его от напластований времени.
– Думается мне, что это не единственные методы.
– Не единственные, – подтвердила Ольга Ивановна. – Органикой тут не ограничиться. Датировать помогает остаточная намагниченность. Этот метод похож на дендрохронологию, только вместо деревьев данные получаются от обожжённых горных пород, керамики, печей.
Дело в том, что глины и железосодержащие породы, если их обжечь, сохраняют в себе величину и направление магнитного поля в момент последнего нагрева. Узнав эти данные, можно датировать объект. Правда, для этих изысков нужно, чтобы было исполнено два требования к образцу: длительный нагрев и неизменное положение с момента последнего нагрева.
Как и в случае с дендрошкалой, нужны данные об изменениях величин и направления магнитного поля для этой местности и чтобы эти данные подтверждались хорошо датируемыми памятниками.
Понятно теперь, почему и из-за чего археологи так долго копаются? Собирается и обрабатывается вся информация, какая только есть. Ещё больше времени уходит на перекрёстную проверку различными методами.
Прогулка тем временем продолжалась. Сергей то и дело взбирался на какую-нибудь кручу и с восхищением озирался кругом, удивляясь природной красоте. Он, бывало, оглядывался на мать, ища сочувствия своим эмоциям. Ольга Ивановна с пониманием смотрела на сына, улыбаясь его проявлениям непосредственности.
«Продержаться бы».
Эмоциональный фон этой прогулки для Ольги Ивановны был другим. Это дома можно найти для себя дело и уйти в него, что называется, с головой, спрятаться. А тут…
Ольга Ивановна пыталась, чтобы её цветок души вдруг не распустился; отгоняла от себя мрачные мысли. Пыталась ответить на взгляды сына улыбкой. Казалось порой, ещё чуть-чуть, и она даст волю эмоциям.
– Интересная у тебя, мам, работа. Хотя талант художника у тебя есть.
– Ты так сказал, будто у меня нет таланта быть археологом, – деланно возмутилась Ольга Ивановна.
Если бы Сергей внимательнее посмотрел бы на мать, то увидел, что этой деланностью Ольга Ивановна успела урезонить и замаскировать свои уже вырывающиеся наружу эмоции. Хорошо, когда получается таким образом себя осадить – накал эмоций входит в крутое пике. Сколько уже таких пике было – не счесть.
– Я не так хотел сказать,– рассмеялся Сергей.
– Я поняла. Между прочим, я совмещаю эти профессии.
– Совмещаешь? Зачем нужны художники на раскопках? Или ты вдохновляешься только от археологии?
– Затем, чтобы зарисовывать находки в дневник; ты что, забыл? Не всем же дано хорошо рисовать.
– О! Когда-нибудь за твоими дневниками, как и за картинами, будут охотиться коллекционеры!
– Не будут! Они спрятаны в надёжном месте.
– Где?
– В архивах Академии наук. Это ведь не просто какой-то черновик, который можно вести, как тебе заблагорассудится, а самый главный документ в экспедиции. Хотя в нём и присутствуют некоторые вольности – ты можешь, например, записать в него свои предварительные суждения.
– Поэтому ты такая аккуратная?
– Наверно. Я люблю свою работу, а она обязывает меня быть аккуратной.
– Это видно, мам.
Ольга Ивановна улыбнулась сыну.
А Джангуль продолжал удивлять своими непостоянными видами. Кто знает, что произойдёт с запомнившейся скалой на следующий год? Полетят ли камни в сторону моря или, обветрившись, станут выразительнее звериные черты? А может быть, Природа нарисует лик человека – одного из самых прекрасных и, несомненно, самого страшного своего творения?
Ясно одно – в силах человека сохранить этот прекрасный лик Природы.
Глава двадцать первая
Ещё одно путешествие во времени
Ещё на одном любопытном разговоре мы с Вами, дорогой Читатель поприсутствовали. Чуть позже подъедет Вадим Аркадьевич, и семья Мирновых возвратится домой.
Но мне бы хотелось поддержать тему раскопок; ведь это – чистой воды приключение. Самая настоящая походная романтика, как сказала Ольга Ивановна.
Только представьте себе, мой Друг! Конец рабочего дня. Члены экспедиции, поужинав, сидят вокруг костра; поют песни, вспоминают о доме, делятся впечатлениями последних дней. А над ними раскинулся таинственный звёздный купол. Его тайна, несомненно, манила к себе и древних, рождая мысль.
Так и тысячи артефактов образуют созвездия истории, и мы силимся расшифровать эти послания из глубины веков. Мысль продолжает рождаться, влекомая тайной, что под ногами.
Конечно, в Крыму было множество археологических находок, но я хочу поведать об одной, сделанной в 1830 году. И сделаю это, как всегда, по-своему…
Каких только снов не видел Царь-Скиф за эти тысячи лет: и повседневный мирный быт с его маленькими радостями и заботами; и дикая война с блеском оружия и безумных очей. Бывает, снятся бесчисленные табуны лошадей, поднимающих пыль под солнцем. А бывает, снится охота…
В этот раз снилось нечто необычное для степняка.
Лошадь, привыкшая к степным просторам, казалось, с нетерпением перешагивала каменные навалы и стволы поваленных ветрами деревьев, как бы торопясь оставить за спиной все препятствия. Видимо, это нетерпение передалось и всаднику: он с тревогой всматривался вперёд, временами уворачиваясь от надвигающихся веток.
Вскоре пришлось спешиться. Оставив своего коня, царь подошёл к журчащему ручью и, зачерпнув холодной воды, испил из ладоней. В лесном зеркале зарябило отражение букового леса.
В зарослях пробежал дикий кабан; наверху вспорхнуло несколько птиц, захлестав по воздуху крыльями.
Напившись, скифский царь поправил кафтан и направился вглубь чащи. Поднявшись по тропе, оглянулся. Конь спокойно стоял, опустив голову к земле, и принюхивался к чему-то. Боевая маска в виде грифона на его голове светилась подобно солнцу; как, впрочем, и одеяние самого царя. Блеск золота был таким призрачным, но тем не менее органично вписывающимся в окружающую палитру весеннего леса.
Характерная для скифа остроконечная шапка была украшена золотым цилиндрическим обручем, а золото бляшек с изображениями богов и животных лоснилось на безрукавке. Рукавом рубахи прикрылись браслеты с ликами сфинксов – как стражники, смотрели они друг на друга. Жёлтый металл был повсюду: рукоять меча, ножны, горит для стрел и лука, поножи.
Случись, что солнечные лучи достигли золотых доспехов – тогда картина была бы ещё более неправдоподобной: статный высокий воин – словно посланец Ареса, бога войны, идёт меж бежевых стволов бука.
Сапоги, перехваченные ремешками, мягко ступают по лесной тропе. Хоть прошлогодняя листва ещё скована морозцем, но по каким-то неведомым признакам ощущается скорое пробуждение.
Предчувствие не обмануло – в низине быстро стал наплывать туман. Хрустальность морозного воздуха исчезает, сменяясь неразборчивым гулом.
Сквозь кроны деревьев становятся заметны скалы, подступающие к самому лесу. Подъём становится круче – приходится кое-где даже цепляться за ветки кустарника.
До слуха всё чаще стали доноситься звуки падающих камней. Подумать о природе этих звуков скифу не удалось – его внимание привлёк свет, который размягчался в клубах тумана.
Сначала царь подумал, что это кто-то остановился на привал и разжёг огонь. Но как он раньше его не заметил – вот загадка. И почему не чувствуется запах дыма?
Скиф было направился в сторону огня. Сделав ещё пару шагов, остановился, чтобы удостовериться – верно ли, что огонь сдвинулся? Ему не показалось?
Нет, не показалось. Пятно света действительно переместилось. Что же это может означать?
Заинтригованный и в то же время напрягшись – приготовившись к любой неожиданности, царь продолжил путь. Стук камней друг о друга теперь отождествлялся для него с загадочным явлением.
Смягчённый туманом свет мелькал, прерываясь ветвями и стволами деревьев. Дойдя до того места, где скиф впервые увидел огонь, он бросил взгляд на землю и увидел следы оленя, судя по всему, довольно-таки крупного.
И вот сквозь разрывы тумана показался яркий шар. Он держался в рогах священного животного, как держится драгоценный камень в золотой оправе. Благородный олень нёс солнце.
Это настоящее чудо! Удивительное зрелище!



