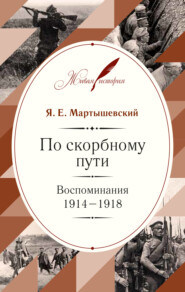
Полная версия:
По скорбному пути. Воспоминания. 1914–1918
В описываемый мною день переход выдался очень тяжелый. Пока в воздухе чувствовалась утренняя прохлада, идти было легко и даже приятно, но когда солнце начало палить и прямо в лицо подул горячий, точно из раскаленной печи, ветер, двигаться сделалось трудно. Постепенно затихли смех и веселые разговоры – это первый признак утомления солдат.
Покрытые толстым слоем серой пыли, с красными, вспотевшими лицами, с полусогнутыми под тяжестью амуниции спинами, они шли гуськом по сторонам дороги, едва волоча ноги. Изредка всеобщее молчание нарушал чей-нибудь одинокий сдавленный возглас вроде:
– Ф-фу! Вот-те и Галиция! Словно в бане паришься!
Особенную усталость мы почувствовали около четырех часов дня. Солнце жгло немилосердно. Ноги отказывались двигаться, а между тем оставалось пройти еще верст пять-шесть. Остановки для отдыха делали чуть не через каждые 10–15 минут, причем достаточно было командиру полка остановить лошадь и махнуть рукой, как от головы колонны проносился гул «Стой! Стой!», и измученные люди, как снопы, валились на землю на том месте, где стояли, и тотчас засыпали. Через несколько минут опять слышалось «Вперед!», и вся эта, дотоле недвижная серая масса человеческих тел, распластавшихся на земле, вдруг встрепенулась, поднималась на ноги, кряхтя и бормоча ругательства, и снова медленно плелась вперед.
Я испытывал такую усталость, что почти ничего не соображал. Натертые узкими сапогами ноги ныли и подкашивались. Пыль залепляла глаза. Во рту совершенно пересохло. Я ежесекундно вытирал платком лицо, но только еще больше размазывал грязь. На каждой остановке я ложился прямо на землю и чувствовал, как веки помимо моей воли слипались, точно на них давила какая-нибудь тяжесть. И так сладко было забыться на эти несколько минут…
Наконец, совершенно замученные и грязные, мы втянулись в деревню N, где и расположились на отдых. Но едва только, стряхнув с себя пыль и умывшись, я сел за стол, чтобы закусить, как вдруг около нашей халупы послышались какой-то необычайный шум, крики и стрельба. Я вскочил и подбежал к раскрытому окну. На дворе и на улицах деревни была большая суматоха. Солдаты, кто с котелком в руках, кто без пояса и без шапки, кто босой, кто с ружьем, заряжая его на ходу, кто без ружья, куда-то бежали. Из всего этого и из различных непонятных криков я догадался, что на нас напала австрийская кавалерия. Мне сообщилось охватившее всех паническое чувство. В волнении я бросился искать револьвер и шашку и, как назло, не мог найти ни того, ни другого. Ротный командир и поручик Пенько тоже засуетились, и все поспешно выскочили на двор. Наконец и я, найдя свое оружие и извергая поток ругательств за то, что оно так долго не находилось, выбежал вслед за ними.
Солдаты, приводимые в порядок резкой бранью и пинками офицеров, мало-помалу приходили в себя и выстраивались на окраине деревни.
Недалеко от нас, под лесом, слышалась ружейная перестрелка, сопровождавшаяся несколькими сильными взрывами. Хотя я чувствовал, как у меня дрожали поджилки, однако я старался казаться совершенно хладнокровным и успокаивал солдат. Присутствие духа офицеров сейчас же передалось солдатам, они вскоре оправились от первого испуга и спрашивали друг у друга, что же именно такое случилось? В первый момент никто ничего не мог разобрать, но вскоре выяснилось, что в лесах скрылись два неприятельских эскадрона после разгрома австрийской кавалерийской дивизии, в состав которой они входили.
Воспользовавшись тем, что наш полковой обоз немного отстал от своих, эти два эскадрона напали на него недалеко от той деревни, где мы расположились на отдых. В обозе, конечно, произошла паника, особенно когда австрийцы открыли огонь из пулеметов. Лошади понесли, переворачивая повозки и разбивая их. Большинство обозных солдат разбежались. Но в это время небольшое прикрытие обоза, состоявшее всего из нескольких десятков человек, рассыпалось в цепь, и, когда австрийцы, увлеченные легким успехом, бросились с шашками наголо в атаку, их встретил меткий огонь нашей цепи, которым они и были рассеяны. Стрельба уже затихла, но полк все еще стоял, готовый встретить врага, откуда бы он ни появился. С наступлением сумерек было приказано выставить непосредственное охранение и разойтись. В охранение назначили мой взвод. Я сам выставил полевые караулы, сказал, с какой стороны ожидается противник, и приказал ни в коем случае не спать. Было уже совсем темно, когда я вернулся в полевой караул № 1, расположенный во ржи у дороги. Я присел на шинель, растянутую на примятых к земле стеблях, и употреблял все усилия к тому, чтобы не заснуть. Но веки не слушались и сами собой закрывались, а утомленное тяжелым переходом тело жаждало отдыха. Несколько солдат темными молчаливыми силуэтами расположились около меня, и я чувствовал, как в них тоже происходила тяжелая борьба со своей слабостью. Прямо против меня полулежала чья-то солдатская фигура, и видно было сквозь сумрак ночи, как голова этого человек все ниже и ниже склонялась к земле, наконец, припала, и через секунду уже слышалось легкое, сладкое похрапывание. Но начальник караула бравый унтер-офицер не дремал. Он зорко следил за тем, чтобы никто не спал. Тихонько подойдя к заснувшему солдатику и тряхнув его за плечо, он проговорил таинственным шепотом: «Зорин! Не спи!» Этого было достаточно, чтобы солдатик встрепенулся, даже вскочил на ноги и пробормотал, с трудом преодолевая сонливость: «Виноват, одолела проклятая…» – подразумевая под словом «проклятая» сон, который нападал на нас, как назойливая муха. А вокруг раскрыла нам свои объятия тихая, теплая ночь. В беспредельном, темном небе мерцали недвижные звезды. Изредка раздавался крик какой-нибудь ночной птицы в соседней чаще, и снова все умолкало. И чудилось в этой зловещей, немой тишине, что вот где-нибудь близко, скрываясь за кустами, ползут как змеи какие-то люди… Мгновение, и они бросятся на нас как звери… Мы ощетиним свои штыки. Произойдет короткая кровавая схватка, и благоговейную тишину ночи нарушат раздирающие душу крики раненых и хриплые стоны умирающих… Но все было спокойно. Враг не тревожил. Ночь кончалась. Уже яснее и яснее выделялись очертания бугра впереди, леса справа, деревни позади. Ночная темень постепенно уступала место первым проблескам дня. Запели разноголосые петухи. В деревне заходили люди, послышались голоса, ржание лошадей. Белесоватый пар курился над землей. Наконец сделалось совсем светло, хотя солнце еще не вставало. Я приказал снять полевые караулы и собрать их около дороги. У всех были истощенные и побледневшие после бессонной ночи лица. Сырой утренний ветерок пронизывал до костей и заставлял дрожать. Но едва мы пришли в деревню и успели выпить по кружке чая, как уже снова пришлось собираться в поход, так как полк получил приказание выступить в 6 часов утра.
Было 13 августа. На небе ни облачка. Уже с утра солнышко начало припекать. Переход предстоял нам около тридцати верст до деревни, где мы должны были ночевать. Первое время мы двигались по шоссе, которое пересекло железную дорогу с разрушенной станцией и поломанными стрелками. Местность была неровная. Мы то спускались вниз, то забирались на высокий холм, откуда открывалась широкая перспектива на далекие синие леса, на испещренные темными, желтыми и зелеными полосами полей возвышенности, на которых лепились то на скате, то в лощине, то на самой вершине небольшие серые деревушки и хутора. При виде этой картины я радовался от сознания того, что часть богатой неприятельской земли, оставшейся позади нас, уже по праву принадлежит нам. Ах, если бы я знал в тот момент, что не пройдет и года, как все это мы отдадим врагу так же легко, как и завоевали!..
Когда мы прошли верст десять, нашего слуха коснулся какой-то неясный, глухой звук, подобный раскатам далекого грома. Звук этот то трепетал в воздухе, то вдруг умолкал с тем, чтобы опять возобновиться. Сомнения не было, это доносилась орудийная канонада – страшный предвестник военной грозы. С каким-то непонятным, приподнятым, но в то же время жутким чувством я прислушивался к этим пока еще нежным звукам, похожим на рокот волн… Я прислушивался к ним, как прислушиваются к радостному пасхальному звону, но только с большим волнением, с большим подъемом души, в которой зазвенели какие-то новые, неведомые струны…
Мы шли, изредка останавливаясь на короткий привал. Гром орудий становился все явственнее. Но мы уже не обращали на него внимания, потому что, с одной стороны, слух уже привык, а с другой – было не до того, так как мы начали испытывать большое утомление.
Около одной деревушки, раскинувшейся на берегу небольшого озера, наш батальон, шедший в авангарде, остановился немного передохнуть. К дороге примыкала небольшая зеленая лужайка, на которой особенно приятно было растянуться и полежать хоть несколько минут, закрыв лицо руками от жгучего солнца. Штабс-капитан Василевич отъехал немного назад для того, чтобы посмотреть, далеко ли еще идут главные силы нашего полка. Между тем находившиеся впереди нас роты авангарда поднялись, пошли и вскоре скрылись за ближайшим леском. Штабс-капитан Новоселов этого не заметил и спокойно продолжал смотреть вдаль. Когда я подошел к поручику Пенько и сказал ему, что мы оторвались, то он мне иронически ответил:
– Ну что ж, это дело ротного командира, пусть не зевает по сторонам.
Зная о тех чувствах, какие питали друг к другу эти два человека, я не удивился едким словам поручика Пенько. Возвратившись к роте и увидев ее одну посреди поля, штабс-капитан Василевич заволновался и очень обиделся на нас и особенно на поручика Пенько за то, что мы его не предупредили об уходе авангарда. Штабс-капитан Василевич, желая поскорее догнать ушедший вперед батальон, приказал двигаться быстрым шагом, подгоняя плеткой отставших. Измученные люди почти бежали, напрягая последние силы. Однако никаких следов авангарда мы не встречали, точно он в воду канул. Правда, местность была так богата всякими лощинами, кустарником, рощами, деревушками, что в ста саженях могли бы легко не заметить целого батальона. Кроме того, дороги расходились в разные стороны, и вот нам требовалось угадать, по какой именно пойти, чтобы нагнать авангард. Наобум мы свернули вправо и вышли на бугор, но вокруг не видно было ни одной души, и только собаки отчаянно лаяли в соседней деревне. Солдаты сбились в кучу, как стадо баранов. Кто прилег, кто стоял, опираясь обеими руками о ружье. У всех на лицах было написано большое утомление, но в то же время легкая тревога, вызванная тем, что мы, очевидно, заблудились. Да, заблудиться в чужой, незнакомой стране, почти под носом у противника – это, конечно, довольно неприятно и даже, можно сказать, жутко. Но, видно, и сам ротный командир немного растерялся. Левее, за следующим бугром, поднималась небольшая пыль. Мы с ротой пошли в этом направлении и вскоре втянулись в большую деревню, через которую пролегала широкая дорога. Мы двинулись по ней. В это время в костеле начали тревожно, как на пожаре, звонить в колокола. Было очевидно, что какой-то добросовестный житель этим знаком предупреждал кого следует о движении русских войск. Но благодаря усталости мы не обращали внимания на звон и безостановочно двигались по извилистой дороге, которая, выйдя из деревни, потянулась по узкой лощине между двумя высокими и длинными сопками. Едва мы миновали деревню, как мимо нас во весь дух промчался верхом казак, везший какое-то, очевидно, донесение, а вскоре мы увидели двигавшуюся навстречу нам по той же дороге кавалерийскую колонну. Запыленные и молодцеватые на вид драгуны с шапками набекрень, с длинными пиками в руках ехали спокойным шагом по трое в ряд, поднимая густую пыль. Я смотрел на них с тайным восхищением и уважением, как на людей, испытавших нечто, чего я еще не испытывал и что предстояло мне еще испытать. Это и была именно та лихая дивизия, которая, как рассказывал мне в местечке Янполь штабс-ротмистр, наголову разбила австрийскую кавалерийскую дивизию. Посреди колонны, громыхая орудиями, ехала конная батарея. Я остановился и спросил у первого попавшегося драгуна:
– Ну что, брат, как дела?!
– Да ничего, слава богу, ваше благородие, – отвечал тот, придержав заигравшую вдруг вороную лошадь. – Можно сказать, здорово попало австрияку. Он хотел нас окружить и пустил много сил, а наша батарея как зачала по ём крыть, так, сдается, тыщи две али три положила. Оченно метко била наша батарея…
– Так чего же вы отступаете?! – горячо воскликнул я, возбужденный рассказом драгуна.
– А он, вишь, послал на нас пехоту, ну а супротив пехоты нам нельзя идти… Теперь ваш черед настал. Тут недалече до их, версты две-три, не боле…
Драгун тронул шпорами лошадь в бока и поехал догонять своих, а я пошел вперед, с трудом передвигая ноги. Наша рота растянулась чуть не на версту. Люди шли по одному, по два, согнувшись, тяжело вздыхая и вытирая изредка рукавом пот с лица, которое пыль покрывала, как пудрой. А по дороге все еще двигались стройными рядами лихие драгуны. Сквозь топот сотен копыт, фырканье разгоряченных лошадей слышались веселые голоса и смех. Колонна кончалась. В хвосте ее, поскрипывая плохо смазанными колесами, ехали три телеги, убранные зелеными березовыми ветками. Сквозь их трепещущие от ветра листья выглядывали строгие, запыленные и побледневшие лица раненых драгун. Некоторые лежали с обвязанной головой, другие сидели с перевязанной рукой, поддерживая ее здоровой, чтобы смягчить толчки и тряску телеги. При виде этих первых русских раненых меня охватило благоговейное чувство, чувство, в котором были уважение к ним и даже тайная зависть за то, что они уже принесли священную жертву, пролили свою кровь… Но наряду с этим высоким чувством где-то глубоко в тайниках души шевельнулось другое, смутное чувство, это чувство ужаса перед теми страданиями, страшным призраком смерти, перед теми слезами и проклятиями, на арену которых меня бросила неотвратимая рука судьбы… И, как бы вторя этим дрогнувшим в глубине моей души струнам, где-то недалеко впереди, за лесом, пронеслись раскаты орудий, подобные могучему прибою волн. Сердце забилось сильнее. Я сознавал, что начиналось что-то необычайное, великое и таинственное помимо меня, моей души. Начиналось то, к чему стремилась моя душа в течение нескольких лет, что составляло для меня заветную мечту. И вдруг новое чувство бодрости, решимости и энергии, как целительный бальзам, распространилось в моем утомленном от похода и жары теле. Я забыл об усталости, жажда перестала меня мучить. Я шел вперед, обгоняя солдат, желая поскорее догнать голову своей роты. Я с трепетом прислушивался к грому орудий, который временами рокотал в разреженном, раскаленном воздухе, и мною все больше и больше начинало овладевать то особенное лихорадочное состояние, какое бывает у человека перед боем. На краю деревни наша рота догнала, наконец, свой батальон. Он так растянулся, что никто и не заметил, как мы оторвались. Командир батальона подполковник Бубнов остановил батальон на короткий отдых. Отставшие солдаты, едва волоча ноги, доходили до своих рот и падали в изнеможении как подкошенные на пыльную дорожную траву. Мучительная жажда томила всех, но в деревне нельзя было брать воду, так как боялись, что она отравлена.
Воспользовавшись маленькой остановкой, поручик Пенько подозвал своего денщика с косым глазом, разбитного и смышленого, и приказал ему вынуть из сумки курицу, которую тот сварил еще утром для похода. Поручик Пенько был, как всегда, веселый. Утомительный поход на него нисколько не подействовал. Даже, скорее, наоборот: лицо загорело, запылилось и сделалось еще мужественнее. А его фигура – плотная и немного сутуловатая, в простой солдатской рубахе и шароварах защитного цвета, с цейсовским биноклем сбоку – выдавала в нем хорошего боевого офицера. Он говорил о предстоящем бое так непринужденно, так легко, что казалось, речь идет не о таком деле, где будет потоками литься невинная человеческая кровь, где будет носиться ураган смерти, а так, о каком-то пустяке. Он не сомневался в том, что австрийцы побегут при малейшем натиске русских войск. Так же просто, как и говорил, поручик Пенько разломал курицу на несколько частей и предложил мне одну. Он очень был удивлен и даже, кажется, обижен, когда услышал мой отказ. Правда, с самого утра мы ничего не ели, но мне было не до еды. Поручик Пенько, конечно, не мог знать, какие сложные чувства в тот момент меня наполняли. Он истолковал по-своему мой отказ, вслух заявив, что действительно перед боем не следует ничего есть, так как если пуля попадет в наполненный пищей живот, то рана будет, безусловно, смертельна. Однако это соображение не помешало ему с аппетитом уничтожить чуть не полкурицы.
– Можете пожалеть, что не попробовали, – обратился он ко мне с добродушной улыбкой, вытирая руки носовым платком. – А если бой будет продолжаться…
Но в это время послышался голос командира батальона:
– Господа офицеры, ко мне!
Мы сгруппировались около подполковника Бубнова, рассматривая карту, на которой он обвел карандашом участки рот для обороны в случае, если противник сам перейдет в наступление. Твердым, спокойным голосом отдав все нужные указания и распоряжения, подполковник Бубнов приказал двигаться дальше. Батальон начал собираться, чтобы перейти на лежавший впереди хребет и там окопаться, а полуротам нашей и 3-й роты было приказано остаться на месте в резерве. Штабс-капитан Василевич назначил вторую полуроту под моим начальством. Через минуту батальон, сверкая штыками и поднимая пыль, уже двигался колонной по дороге, которая сначала полого спускалась в широкую лощину, уставленную скирдами хлеба, и затем поднималась на противоположный гребень и там терялась в синеватом темном лесу. Видно было, как батальон, спустившись в лощину, свернул вправо и, отойдя от дороги шагов четыреста, остановился у подошвы возвышенности. В это время ко мне подскакал на взмыленном белом коне полковой адъютант и торопливо спросил:
– Где командир батальона? – Я молча махнул рукой по направлению к высоте. – По приказанию командира полка поручаю вам передать подполковнику Бубнову чтобы он со своим батальоном безостановочно продолжал движение по указанному маршруту.
Сказав это, адъютант круто повернул коня и ускакал. Я, молодой, как называли нас тогда старые офицеры, «фендрик», был польщен тем, что на мою долю выпала честь передать приказание высшего начальства. Кроме того, сознавая важность этого приказания, я сказал прапорщику Ракитину вести полуроту на присоединение с первой полуротой, а сам схватил лошадь штабс-капитана Василевича, бывшую в тот момент им не занятой, и во весь дух напрямик через вспаханные поля помчался туда, где виднелся наш батальон. Лошадь поминутно спотыкалась в рыхлой земле, тяжело дышала и чуть не падала. В то время я еще очень плохо ездил верхом и потому едва сидел в седле. Даже когда стремена выскользнули из моих ног и я в отчаянии ухватился за луку, даже и тогда прилив энергии у меня был так велик, что я начал хлестать лошадь плеткой, окончательно рискуя вылететь из седла. С некоторой картинностью я подскакал к командиру батальона и круто осадил лошадь. Спокойный, почти суровый вид подполковника Бубнова сразу укротил мой пыл, и я, невольно заражаясь его хладнокровием, старался как можно сдержаннее сказать, приложив руку к козырьку:
– Господин полковник! Командир полка приказал вам с батальоном безостановочно двигаться вперед.
Из-под насупленных серых бровей этого железного человека на меня смотрели строгие, горящие глаза. Он молча кивнул и отошел в сторону. Подъехав к своей роте, я слез с лошади и передал ее вестовому штабс-капитана Василевича. В это время вслед за гулом загремевших орудий до моего слуха донеслись откуда-то совсем близко два глухих отрывистых удара, очень похожих на пушечные выстрелы, но значительно мягче. Я оглянулся назад и увидел над лесом в нескольких сотнях шагов от нас два наполовину белых, наполовину красных облачка, которые медленно вытягивались, принимали различные причудливые формы и, наконец, растаяли в жарком воздухе. Это разорвались шрапнели. Такие невинные и нежные на вид, они несли с собой сотни смертоносных осколков. Втайне я испытывал удовлетворение. Вся обстановка пока представлялась именно такой, как рисовало мне раньше мое воображение. Все было налицо: и утомление походом, и жара, и голод, и ординарцы на взмыленных лошадях, и гром орудий, и рвущиеся снаряды… О, если бы я в ту минуту знал, что это только цветочки, а ягодки еще впереди!..
Подойдя к своей роте, я присел на зеленую травку около отдыхавших солдат, которые от усталости ничего не могли говорить. Я так же, как и все, не знал, куда мы шли, что предстояло нам сделать, близко ли, далеко ли противник. Ясно было одно, что надвигалось нечто страшное, могучее, неотвратимое…
Но вот нашего ротного командира попросил к себе подполковник Бубнов. Вскоре штабс-капитан Василевич вернулся от него со строгим, несколько возбужденным выражением на лице, подождал немного, пока подошла вторая полурота, приказал затем роте двигаться вслед за ним. Мы шли первое время по лощине, а потом, свернув налево, начали подниматься по вспаханному бугру. Утомленные солдаты шли беспорядочной толпой, согнув спины, кряхтя и сопя, с трудом вытаскивая из рыхлой земли ноги, обутые в тяжелые неуклюжие сапоги. Я тоже напрягал все силы, чтобы идти вперед, а не застыть на месте. Пот градом катился с моего лица. Устремив тупо глаза вниз, я молча шагал по пахоте.
– Фу-у ты, прости Господи! Никак не могу идти дальше, ваше благородие! – взмолился около меня какой-то солдатик с серой от пыли бородкой и жесткими, торчащими книзу усами, видно, запасной.
– Так точно, ваше благородие, оченно тяжело по «его» земле ходить, больно много гор… – проговорил кто-то сзади.
Усталость и нервный подъем взяли свое, и я крикнул с раздражением:
– А вы думаете, мне легко?! Черт с вами, оставайтесь, кто не может больше идти, а мы пойдем вперед умирать…
Эта вырвавшаяся горячая, но искренняя фраза, видно, подбодрила солдат. Они умолкли и медленно, но ни на шаг не отставая, плелись вокруг меня, тяжело дыша и вытирая с лица пот. Наконец, мы забрались на вершину холма и, взглянув вперед, застыли на месте. А впереди, на расстоянии версты, на гребне противоположной возвышенности виднелись темные массы каких-то людей, проектировавшихся на фоне белесоватого от зноя неба. Эти толпы, подобные тучам саранчи, занимали почти весь гребень и находились, казалось, тоже в оцепенении. Мы все молча смотрели вдаль на темные колонны и в первое мгновение думали, что это наши войска, не предполагая, чтобы австрийцы могли быть уже так близко. Но вдруг эти людские волны зловеще заколыхались, большие массы раздробились на мелкие группы, в разных направлениях задвигались какие-то точки, на гребне, таким образом, все зашевелилось, и через минуту отчетливо было видно, как выделялись длинные цепи и быстро задвигались в нашу сторону, делая перебежки.
– Ваше благородие! «Он» наступает! – с оттенком ужаса воскликнул один из солдат.
Сомнения не было, противник действительно перешел в наступление. В этот момент к нам подскакал на хрипевшей, взмыленной лошади казак и взволнованно подтвердил то же самое. Все засуетились. Послышались какие-то дикие голоса вроде «Ребята, ложись!..» или «Ховайся (прячься) за скирду!..»
В первую минуту я сам очень заволновался и почувствовал, как лихорадочная дрожь пробежала по моему телу, а сердце молотком застучало в груди. Увидев, что командир 4-го взвода прапорщик Ракитин отдает моей полуроте, оставленной штабс-капитаном Василевичем в резерве, какие-то распоряжения помимо меня, я не сдержался и закричал:
– Прапорщик Ракитин! Потрудитесь исполнять мои приказания, так как здесь полуротой распоряжаюсь я, а не вы!
Я бросил ему эту фразу не потому, что желал его осадить, а потому, что заметил паническое настроение солдат, испуганных неожиданным появлением и наступлением врага, и каким-нибудь энергичным действием хотел вернуть их к спокойствию и порядку. После этого я приказал полуроте рассыпаться в цепь и залечь тут же, на сжатом поле. «Вот оно начинается…» – промелькнуло у меня в голове, и я, сняв фуражку, прочел молитву, которую дала мне мать перед отъездом на войну.
Многие солдаты истово крестились. Мы лежали на откосе, обращенном в сторону противника, так что нас было видно как на ладони. Перед нами пролегала широкая с деревней Жуковом посредине лощина, отчасти закрывавшаяся нашему взору небольшим бугорком, лежавшим впереди нас в нескольких десятках шагов и вдававшимся в нее наподобие полуострова. Благодаря этому выступу была видна только часть деревни Жукова. Первая полурота со штабс-капитаном Василевичем и поручиком Пенько залегла немного правее выступа. Оттуда то и дело слышались нервная ругань поручика Пенько и его громкие команды:
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.



