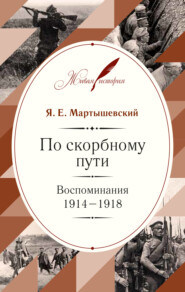
Полная версия:
По скорбному пути. Воспоминания. 1914–1918
– Пошли! Вперед!
Я тотчас же вскочил на ноги, стряхнул с себя минутную слабость и принялся подбадривать и подгонять солдат. Измученные, потные, нагруженные как вьючные животные, люди с трудом поднимались с земли и, шатаясь, плелись вперед.
– А что, ваше благородие, далече нам еще осталось идти? – спросил меня шедший рядом со мной запасный с широкой окладистой русой бородой, с длинными обвисшими усами, серыми узенькими глазками и вздернутым немного кверху мясистым носом.
При этом вопросе в мою сторону с любопытством обернули головы все находившиеся поблизости солдаты. Когда я сказал, что до деревни, где мы должны были расположиться на ночевку, осталось еще верст шесть, многие даже вздохнули.
– Очень тяжело, ваше благородие, – продолжал тот же солдатик. – Так-то оно ничего, можно и зайти, только вот не обедамши того… трудно.
Я промолчал. Действительно, люди целый день ничего не ели, так как командир полка приказал приготовить им горячую пишу по приходе на место ночлега. Мне сделалось стыдно за наше нерадивое начальство и бесконечно жаль этих простых, терпеливых тружеников – русских солдат, привыкших молча и безропотно переносить все, что бы ни выпало на их тяжелую долю. Я искоса поглядел на колыхавшуюся около меня зеленоватую живую массу солдат, среди которых, несмотря на голод и усталость, раздавались иногда веселые восклицания и смех, и подумалось мне, как велика, как могуча должна быть сила, сколотившая в одно нераздельное целое множество самых разнообразных и чуждых друг другу людей и двигавшая их туда, где широкими потоками будет литься человеческая кровь и где смерть соберет богатую жатву… Но вспыхнувшая как далекая зарница мысль быстро погасла. В то время подобные вопросы меня не волновали, я весь отдался настоящему, а настоящее было именно такое, о каком я мечтал со школьной скамьи. Все, что раньше я мог только себе вообразить путем прочитанных книг и собственной фантазии, я начинал испытывать в действительности. Осуществлялась моя сокровенная и заветная мечта – война. Самый поход хотя пока и ничем почти не отличался от обыкновенных мирных маневров, но сознание того, что это военный поход и что скоро издали донесется настоящая орудийная канонада, придавало ему совсем другой характер.
2 августа под вечер мы пришли в деревню Ракитовку. Усталый и запыленный, я опустился на скамейку около чистенькой хаты с белыми стенами, которую квартирьеры отвели для офицеров нашей роты. Я сидел и с наслаждением созерцал скромную, но милую сельскую картину. Вокруг меня раскинулся маленький фруктовый садик, огороженный плетнем; под низкими окошечками хаты пестрели красные цветы; по широкой улице, покрытой местами зеленой травкой, разгуливали полуобщипанные гуси; где-то кудахтала испуганная курица; вот из соседнего дома быстрой легкой походкой вышла по воду баба с коромыслом и двумя болтавшимися на нем пустыми деревянными ведрами; солдаты с довольными, серыми от пыли лицами сновали в разные стороны. И над всей этой мирной картиной сияло всегда прекрасное заходящее солнце, рассыпая повсюду свои тончайшие нити…
Василий развязал мои вещи и дал мне умыться. После этого я с необыкновенным аппетитом принялся за кислое молоко, которое баба-хозяйка дала, принесла прямо из погреба. «Совсем как на даче», – подумал я. За это время я успел ближе познакомиться с офицерами нашей роты. Часто после обеда мы забирались на свои походные постели и начинали беседовать и нередко даже спорить. Мой ротный командир поручик Пенько оказался человеком довольно заурядным. Правда, как офицер он был прекрасный, но в то же время на нем лежала та печать пошлости, которая присуща подавляющему большинству людей. Весь его идеал, казалось, можно было выразить тремя словами: обладание хорошенькой женщиной. К религии он относился равнодушно и даже пренебрежительно. Все, что касалось нравственности, вызывало в нем насмешку и иронию. Он не был женат и на семью смотрел с отрицательной точки зрения, видя в семейном очаге стеснение своей свободы. Пить не особенно любил, но в карты грешным делом поигрывал. Характер имел он вспыльчивый и неровный. Но при всех этих недостатках было что-то в его личности симпатичное, какая-то подкупающая простота и честность, за которую офицеры в полку его любили и уважали. Другой сослуживец нашей роты был прапорщик запаса Ракитин с подстриженными усами и довольно тонкими правильными чертами лица. Говорил он, немного шепелявя. Как офицер он производил неважное впечатление, и впоследствии его не очень хвалили. Судя по разговорам, он казался весьма неглупым человеком. Был женат и имел двоих детей. Ничего особенно дурного я в нем не замечал, но вообще он мне не нравился. Однажды он нам откровенно признался, что любил посещать вместе с женой петроградские кафе-шантаны. Я с удивлением заметил ему, как можно с женой бывать в таких местах, где фигурирует тот же разврат, только в иной, более утонченной и красивой форме? Но прапорщик Ракитин столь горячо и столь убежденно доказывал мне, что он находит это вполне естественным и нормальным, что я и не пытался его разубеждать.
С первого же дня выступления в поход мне пришлось сожалеть о том, что я не захватил с собой из дома ни конфет, ни варенья и ничего съедобного. Уезжая на войну, я почему-то воображал, что придется питаться в большинстве случаев сухарями или солдатской пищей и вообще чем попало. Каково же было мое удивление, когда во время остановки в одной деревне поручик Пенько угостил нас хорошим шоколадом, печеньем, вином и т. п. Тогда еще я был любитель всяких сладостей, поэтому при первом же удобном случае решил накупить их побольше. Так как в деревне Ракитовке мы предполагали простоять еще несколько дней, то я, испросив разрешение у командира полка, поехал на крестьянской телеге в местечко Янполь. Ехали проселочной дорогой. Вокруг желтели сжатые поля, на которых щедрой рукой природы были раскиданы копны хлеба. На мгновение я почувствовал себя не офицером великой русской армии, раскрывшей свои могучие крылья навстречу дерзкому врагу, а тем спокойным, любящим природу человеком, каким я был еще так недавно, живя в деревне. Но оклик: «Стой! Кто едет?» – сразу вернул меня к действительности. У дороги в нескольких десятках шагов впереди стоял солдат, едва различимый среди зеленых кустов благодаря своей защитной одежде. Вся его фигура и лицо выражали сознание собственного достоинства и силы. Убедившись в том, что я офицер, он молча указал рукой на дорогу и стал смирно. По приезде в местечко Янполь я начал делать различные закупки, кстати сказать, денег в то время у меня было порядочно. Когда я вошел в аптекарский магазин, ко мне приблизился, звеня шпорами, с весьма объемистой фигурой кавалерийский офицер.
– Здравствуйте, здравствуйте! Вы ведь семнадцатого полка? – начал он, крепко пожимая мою руку и улыбаясь во весь рот. – Ну что ж, скоро пехота придет к нам на помощь? Ведь наши драгуны о-го-го как далеко отсюда! И здорово работают! На голову разбили австрийскую дивизию, честное слово! Д-да, слава богу, прогнали швабов далеко. Нет, батеньки мои, куда там австрийской коннице тягаться с нашей!..
При этих словах мое сердце радостно забилось от счастья, гордости и упоения первой победой.
В течение почти двухнедельного стояния в Ракитовке я успел приглядеться также к офицерам нашего полка. Всех их можно было, собственно говоря, разделить на три группы. К первой относились старые кадровые офицеры, ко второй – молодые, вновь выпущенные подпоручики, «фендрики», как нас называли в полку, и, наконец, последнюю составляли прапорщики запаса. Из старых офицеров мне нравился командир нашего батальона подполковник Бубнов. Он отличался большой строгостью, немилосердно бил солдат, но, несмотря на это, последние его любили. Мы, «фендрики», дали ему весьма удачное прозвище «волк». Действительно, все: и лицо, и волосы, и глаза, были у него серые. Когда он смеялся, большие белые зубы оскаливались, как клыки рычащего волка. В его холодном проницательном взгляде и в спокойных самоуверенных движениях была видна железная воля, перед которой, казалось, нет преград.
Как человек очень религиозный я, естественно, интересовался личностью нашего полкового священника. При беглом взгляде на него он производил приятное впечатление. Высокого роста, худощавый, с длинной седой бородой, с толстой палкой в руках наподобие посоха он напоминал собой какого-нибудь благообразного и благочестивого старца. Так и казалось, что у этого человека, одной ногой стоящего в гробу, не может быть иных мыслей, кроме мысли о Боге, о вечной жизни, и что земные интересы для него не существуют. «Вот истинный духовный отец, – всякий раз думал я, когда видел его сухощавую, высокую фигуру. – Вот неподкупный врачеватель христианских душ, и, вероятно, немало умирающих на поле брани героев нашего полка найдут свое последнее успокоение на его старческой груди…»
Однажды, незадолго до выступления из деревни Ракитовки, к нам в хату с взволнованным лицом пришел поручик Пенько и начал ругаться:
– Вот, черт возьми, отбирают роту, и главное кто! Офицер, который давным-давно был командирован из нашего полка в Главный штаб, некто Василевич. Ну, ни черта! После первого же боя, если не убьют, приму какую-нибудь другую роту, ведь кто-нибудь из ротных командиров непременно убудет…
Мы искренно сочувствовали поручику Пенько. Хотя особенно дружеских чувств мы друг к другу и не питали, но во всяком случае мы сжились вместе, привыкли поручика Пенько считать своим начальником и начальником хорошим, так что появление нового лица нарушало нашу гармонию. На следующий день вечером к нам пришел и сам штабс-капитан Василевич. Это был красивый брюнет с черными хитрыми глазами. В его лице и улыбке проглядывало что-то демоническое. От всей его личности веяло холодом и неприветливостью. Можно было безошибочно определить лозунг этого человека: сделать себе блестящую карьеру во что бы то ни стало. По-видимому, он никому из нас не понравился, так как разговор не клеился, а поручик Пенько довольно прозрачно ему намекнул, что неудобно, мол, отбирать роту у того, кому она по праву принадлежит. На это штабс-капитан Василевич только иронически улыбнулся. Заметив нерасположение к себе, наш новый ротный командир с напускной вежливостью пожелал нам спокойной ночи и удалился. В течение всей стоянки в деревне Ракитовке мы каждый день ходили за четыре версты рыть окопы, несколько раз производили боевую стрельбу, занимались тактическими учениями, одним словом, как будто никакой войны и не было. Но несмотря на это, всем нам надоело мирное сидение, кроме того, в то время в нас кипел такой стремительный и неудержимый порыв вперед, такая жажда изведать то страшное непостижимое, которое заключалось в слове «война», что мы тосковали, думая лишь о том, как бы скорее встретиться с врагом.
Наконец, давно желанный день наступил. В 5 часов утра нас разбудил вестовой с приказанием собираться в поход. Я оделся и вышел на двор. Было холодно и неприглядно вокруг. Серые тучи беспросветной пеленой заволокли небо; моросил мелкий дождик. Благодаря отсутствию ветра листья на деревьях, трава и растения на огородах словно застыли в унылой неподвижности, отливая влажной, свежей зеленью. Хотя картина была далеко не из таких, которые могли бы вызвать какое-либо радостное чувство, а все же даже полторы недели пребывания в этой серой деревеньке сроднили меня с ней, и мне сделалось ее жаль. Я сознавал, что здесь, в таком невзрачном месте, я оставлял кусочек своей жизни, а ведь все то, с чем так или иначе связана наша жизнь, уже дорого, близко для нас, особенно же это заметно на войне. Между тем солдаты приготовлялись к походу. Всюду мелькали их фигуры с заспанными, землистого цвета лицами. Кто винтовку протирал, кто шинель раскатывал, кто бежал в одной сорочке с котелком в руке за водой, кто старательно раздувал в костре огонь, чтобы попить перед выступлением чайку. В 6 часов наша рота построилась и вслед за другими потянулась по размякшей от дождя дороге к сборному пункту. Когда весь полк выстроился, командир полка скомандовал «Смирно!» и прочел следующий приказ: «Сего числа, уповая на милость Божию, приказываю вверенной мне армии перейти в спокойное, но решительное наступление. Генерал от инфантерии Рузский». Командир полка поздравил полк с переходом в наступление и пожелал успеха в предстоящих боях с врагом. Затем был отслужен молебен о даровании русскому оружию победы, и полк, ощетинившись тысячами штыков, под звуки бодрого марша двинулся в ту сторону, где ожидали его страдания, подвиги и слава…
Мы шли, но нам не говорили куда; мы знали только одно, что идем к австрийской границе. Дождь перестал. Временами из-за туч ласково выглядывало солнце, бросая на сырые поля сноп ярких лучей. То там, то сям виднелись пестрые группы работавших мужиков и баб. Я шел, не чувствуя ни малейшей усталости, и полной грудью вдыхал в себя свежий воздух полей. О войне я не думал, мои мысли перенеслись в далекое прошлое, столь тесно связанное с теми местами, которые мы проходили.
На второй день после выступления из деревни Ракитовки часов в 5 вечера мы приближались к местечку Вишневец. Еще издали мы увидели какие-то большие здания вроде замков, высившиеся наподобие островов среди моря зелени садов. Особенно резко выделялся своей белизной старинный замок князей Вишневецких. Наш полк расположился по квартирам в деревне, находившейся в двух верстах от местечка Вишневец. Мы, то есть офицеры 2-й роты, остановились в чистенькой и уютной хате. Хозяйка, бойкая, уже немолодая баба зажарила нам цыплят, и мы, на славу поужинав, завалились спать и тотчас заснули крепким здоровым сном. Утром следующего дня было приказано побеседовать с нижними чинами о причинах, вызвавших войну, и о наших противниках. В этот день ожидалось солнечное затмение, солдаты моего взвода собрались под деревом во дворе дома, где я помещался. У многих в руках были закоптелые стекла. Я начал довольно подробно им объяснять, из-за чего вспыхнула война с Германией и Австрией, указал в доступной форме на то влияние, каким пользовались немцы у нас в России, на стремление немецкой нации подчинить себе мелкие народы и т. п. Слова мои были исполнены жара и негодования молодого возмущенного сердца. Солдаты уставили на меня свои широкие, усатые и грубые лица и слушали с доверчивым вниманием, затаив дыхание. А между тем на голубом лазурном небе, как бы подтверждая нарисованную мною картину чудовищной войны, совершалось замечательное и редкое явление природы – полное затмение солнца.
– Смотрите, братцы, вот знамение небесное! – вырвалось у меня.
Я перестал говорить, и все с каким-то тревожным любопытством начали смотреть вверх. Медленно, но вполне отчетливо яркий солнечный диск закрывался каким-то другим, совершенно темным телом. Первое время казалось, что кусочек солнца оторван, потом оно приняло форму месячного рога, который с каждой минутой делался все уже и уже. Дневной свет как-то потускнел. Наконец, когда от солнца осталась только узенькая блестящая полоска, на землю словно спустились вечерние сумерки. На потемневшем, сделавшемся зеленоватым небе замерцали бледные звезды. Животные явно начали волноваться; куры закудахтали и стали забираться на жерди, на которых они обыкновенно проводили ночь; какая-то глупая собака завыла…
Мне кажется, что не только животные инстинктивно чувствовали страх перед этим могущественным явлением природы, но и люди не могли вполне равнодушно отнестись к нему. Конечно, всякий, даже простой мужик, знает причину затмения, но все-таки когда светлый радостный день вдруг быстро сменяется какими-то неестественными сумерками, когда вместо ослепительно-яркого солнца вы видите лишь одно темное пятно, вашу душу наполняет жуткое чувство, какой-то суеверный страх. Вы наблюдаете один из бесчисленнейших законов Вселенной, тех законов, которые постигнуть вполне вы не можете, которые управляются чьей-то могущественной, высшей волей и которые тем самым указывают на всю вашу ничтожность… Народная мудрость, отражающая в себе, как в зеркале, истинные мысли и чувства большинства людей, недаром приписывает таким явлениям особое значение; она, эта мудрость, называет их знамением небесным, которое предвещает роду человеческому грядущие бедствия, как то: войны, голод, болезни и т. п. Эти знамения есть видимые проявления совершающейся воли Того, Кто управляет Вселенной… А разве светлый лучезарный и радостный лик солнца, закрывающийся темной массой, погружающей землю во мрак, разве он не подобен человеческому лицу, облеченному в траур по случаю какого-нибудь большого горя? И разве в этом мы не можем видеть также выражение величайшей скорби Творца, скорби о зле, царящем с самого сотворения мира на нашей грешной планете?.. Кажется, нет ни одного бедствия в истории хотя бы России, как, например, кампания 1812 года, Русско-японская война, моровая язва и много других, которые не сопровождались бы каким-нибудь небесным знамением. У меня на памяти такой замечательный случай. В ночь под Новый 1914 год моя мама, некоторые родственники и знакомые возвращались из церкви. Вдруг мама громко воскликнула:
– Господа! Смотрите, на небе крест!
Действительно, на западной стороне совершенно чистого звездного неба стоял огромный, правильной формы крест бледно-желтого цвета, каким обыкновенно окрашено зарево пожара. Все ясно видели крест, который потом постепенно растаял, и один наш знакомый офицер еще при этом сказал:
– Ну, помяните мое слово, будет война…
И точно, он не ошибся.
Когда кончилось затмение и яркое солнце, будто вырвавшись на свободу из пасти страшного, темного чудовища, снова засияло в лазурном небе, я отправился верхом на осмотр замка князя Вишневецкого. Расположенный на высоком, крутом берегу довольно широкой реки, этот замок красовался своим белым корпусом с многочисленными окнами среди зелени парка и прилегающих по сторонам серых и невзрачных домишек местечка. Я въехал через узорчатые железные ворота в просторный двор с красивым цветником посредине. Множество лошадей и повозок свидетельствовало о том, что в замке расположен какой-то штаб. Замок имел форму полумесяца и отнюдь не походил на те старинные сооружения с башнями, зубчатыми стенами и глубокими рвами, о которых у нас сложилось определенное представление, а напротив, по своему виду он, скорее, напоминал собой какое-нибудь казенное современное учреждение вроде института или гимназии. Но таким казался замок с внешней стороны. Совсем другое впечатление он на меня произвел, когда я вошел через красивый подъезд с массивными дубовыми дверьми, украшенными тонкой резьбой, вовнутрь его. Передо мной была большая и высокая комната – передняя. Уже здесь на меня пахнуло глубокой стариной. Прямо на стене висел огромный золоченый герб князей Вишневецких. По сторонам стояли грозные, неподвижные железные фигуры древних польских рыцарей в полных доспехах, готовые, казалось, броситься на всякого по первому знаку своего властелина. Наверх вела покрытая дорогим ковром широкая лестница с чугунными узорчатыми перилами. Хотя самого князя и его семьи не было в замке, но камердинеры в золоченых ливреях сновали взад и вперед. Я попросил одного из них показать мне покои замка. Мы начали с нижнего этажа. Первая комната была оружейная. Здесь по стенам в большом количестве висело старинное оружие самых разнообразных видов: пистолеты с длинными дулами и дорогими рукоятками, различные ружья, гетманские булавы, огромные щиты и мечи. Я смотрел на эти примитивные средства войны и думал, как мы далеко ушли от наших предков, но в то же время мне приходила в голову мысль, какими здоровыми и сильными людьми они, вероятно, были, если могли сражаться при помощи таких тяжелых мечей и щитов, которые не всякий из нас теперь легко поднимет.
Ряд следующих комнат представлял собой нечто вроде картинной галереи. Здесь кроме портретов членов княжеской фамилии были также прекрасные картины известных старинных мастеров. Затем мы прошли в гостиные, которые поразили меня своей царской роскошью. Несмотря на то что большинство дорогих вещей было увезено из замка, все-таки даже и оставшееся говорило о большом богатстве князей Вишневецких. Главное украшение этих комнат составляла старинная мебель из резного дерева, обитая тонким шелком. Изящные обои гармонировали с тоном мебели, и в зависимости от ее цвета комната носила название голубой гостиной или розовой гостиной. Между прочим, камердинер указал мне на одно особенно красивое кресло с золоченой спинкой и ручками, обтянутое светло-голубым бархатом. По словам камердинера, на этом кресле любила отдыхать Марина Мнишек. Я с любопытством посмотрел на кресло, и мне в голову пришла ребяческая шутливая мысль посидеть на этом историческом кресле, чтобы впоследствии я мог бы кому-нибудь с гордостью сказать, что вот, мол, я сидел не где-нибудь, а на кресле, на котором сиживала сама Марина Мнишек. Обойдя все комнаты, я отпустил камердинера, щедро его наградив, и вышел на просторный балкон. Последний был сделан из белого камня, потемневшего от времени. По углам и посредине перил стояли высеченные из того же камня вазы с покоившимися на них шарами. Впереди открывался один из тех чудных видов, которые невольно приковывают к себе ваш взор. Внизу, у подошвы горы, покрытой густыми зелеными деревьями, на которой высился замок, искрилась голубая лента реки. Узкой темной полоской перехватывал ее берег мост, и по нему взад и вперед ползли как муравьи черные точки – люди. Дальше живописно раскинулось местечко с ближайшими селениями, а еще дальше, купаясь в лучах предвечернего солнца, желтели поля, окаймленные синеватыми, сливающимися с горизонтом лесами.
Я облокотился о перила балкона и задумчиво смотрел неподвижным взглядом вперед, на эту прекрасную картину, и мысли мои невольно перенеслись в седую старину Быть может, думал я, когда-нибудь давно-давно стояли вот здесь, на этом самом месте, в тихую лунную ночь Лжедмитрий и Марина Мнишек и, прижавшись друг к другу, упоенные счастьем любви, смотрели в молчаливую, бледную даль и на спокойную, отражавшую в себе блеск луны реку, над которой стлался легкой белой вуалью туман… Вероятно, в тот миг жизнь для них казалась столь прекрасной, столь заманчивой! Не было прошедшего, не было будущего, было только настоящее, томительное и сладостное… Но что теперь? Тот же замок и балкон, та же река, та же даль… Все то же, как и было несколько веков тому назад, но нет уже тех лиц, которые здесь жили, страдали, наслаждались… Их нет давно, они потонули в бездне времени и лишь бессмертная, неувядаемая красота природы осталась такой же, как и прежде.
Я вышел в парк, в тот парк, где Лжедмитрий клялся в любви Марине Мнишек. Парк оказался немного запущенным, кое-где еще сохранились старинные статуи. Мои мысли, перенесшиеся было к далекому прошлому, сразу вернулись к действительности, когда я увидел расположившийся в парке обоз. Мне сделалось неприятно, и я, отыскав свою лошадь, хотел отправиться на почту, чтобы сдать деньги, но в это время мое внимание привлекла группа людей, толпившихся около повозки. За людскими головами я не мог разобрать, что находилось в повозке, но, вероятно, что-нибудь очень интересное, так как каждый старался протиснуться ближе и раздавались какие-то одобрительные возгласы. Я подошел к ближайшему мужику и спросил, в чем дело.
– Пленные австрияки, – проговорил он, почтительно снимая шапку.
При этих словах у меня что-то дрогнуло внутри. До сих пор я только знал, что вспыхнула война, что через несколько дней начнутся бои, но пока все это ничем не выражалось реальным и потому почти не волновало меня. Но вот неоспоримый предвестник войны – пленные, настоящие пленные! Мне казалось, что они были подобны первым каплям дождя перед грозой, когда ветер нагоняет передние клочки туч, а там дальше небо заволакивается свинцовым покрывалом, и слышатся уже недалекие удары грома… Едва я выразил желание посмотреть пленных, как толпа тотчас расступилась, я подошел к повозке и увидел их. Как ни странно, но должен признаться, что я испытал какое-то особенное, непонятное чувство, нечто вроде разочарования, смешанного с брезгливостью, подобной той, которая возникает в нас, когда мы видим человека, раздавленного поездом. На телеге сидели два австрийца в красных штанах и в нижних белых, но грязных рубахах с расстегнутыми воротниками. Один из них был без шапки, с перевязанной платком головой, который почти весь промок в крови; на растрепанных усах и на бледном усталом лице тоже виднелась запекшаяся кровь. Маленькие, ввалившиеся глаза горели лихорадочным огнем и говорили о сильных физических страданиях. У другого была ранена левая рука, подвязанная какой-то белой тряпкой, сквозь которую просачивалась свежая кровь. Правой рукой он изредка подносил ко рту кусок черного хлеба. Окружавшие смотрели на австрийцев как на каких-нибудь редких зверей, с любопытством, однако и с сочувствием к их страданиям. Но, вероятно, чувство некоторого разочарования в тот момент испытывали все присутствовавшие, потому что один мужик даже не выдержал и крикнул:
– О-то такие пленные?!



