
Полная версия:
Когда часы быстрей минут. Нехронологический роман
А Даниле сразу понравилось новое место обитания. Он тут же полюбил неторопливое царственное движение полноводной Невы, не замёрзшей в декабре, шутливые окрики извозчиков, запах немецкой булочной, расположившейся неподалёку. Любознательный мальчонка уже несколько дней присматривался к разным мастерским, размещавшимся на окраине города. Жить и работать здесь должно быть проще и свободней, чем в тесном каменном центре, пересечённом росчерками рек и каналов. Наличие рядом большого числа покупателей обеспечивало местных ремесленников работой и доходом. Все эти булочники, сапожники, гончары собирали заказы у столичных жителей, а потом изготавливали требуемое количество товара и доставляли покупателям. Так появлялись в России новые буржуа.
Понравился мальчишке и большой город. Огромные, невиданных размеров дома, возки и кибитки, мчащиеся по прошпекту, гусары в киверах с султаном. Так много новых слов, обрушившихся на него сразу.
Барский дом на его родине, казавшийся когда-то маленькому Данилке огромным роскошеством, в сравнении с петербургскими строениями выглядел деревенской лачугой. Всё в городе святого Петра было большое, основательное, поражающее своими масштабами. На огромной площади у Невы строился невиданный по красоте дворец. Долго не мог оторвать глаз Данила от золотого шпиля Петропавловской крепости, пронзившего низкое зимнее небо Петербурга.
Тёмным утром с мрачными мыслями отправился Иван в город на поиски работы. В кармане портков требыхался кусок лепёшки. Денег мужик с собой не взял, надеясь заработать в порту. Когда он приблизился к большим домам, бросавшим тень на широкие по деревенским представлениям улицы, откуда-то вывернула троица и направилась к одинокому прохожему.
От приблизившихся бродяг, Иван их так определил, пахло перегаром и чесноком. Занятый своими мыслями, деревенский отступил на край, а один из поравнявшихся пьяниц, цыкнув, бросил на ходу:
– Табаком угости!
– Так нету, – протянул крестьянин в ответ, удивившись бесцеремонности обращения.
– Не куришь, што ли? – прогудел надвигавшийся на него прохожий, тот, что был повыше других и шире в плечах.
– А хоть бы и так, – Иван сжал кулаки, намереваясь дать отпор проходимцам.
– А может, ты просто жадный? – приблизился к крестьянину первый и резко толкнул в грудь.
Иван чуть не полетел в грязь с узкого дощатого настила, но устоял на самом краю и, удерживая равновесие, двинул кулаком в скулу толкнувшего. Тот полетел и упал на большого, вместе они повалились на доски.
– Ладно, мужики, побаловали и будет, – Иван наклонился и протянул руку, чтобы помочь незнакомцам выбраться из грязи, которой была покрыта проезжая часть.
Вдруг что-то толкнуло доброго крестьянина в бок. Он удивлённо поднял глаза и увидел рядом с собой третьего собутыльника, улыбнувшегося и спрятавшего нож в карман. Ноги Ивана стали подкашиваться, он осел на доски и свернулся крючком, зажимая рану.
Пырнувший Ивана ножом, не чинясь, обшарил его одёжу.
В грязь полетел только кусок лепёшки.
– И чего выкобенивался? Вывернул бы карманы, а то сразу кулаками махать, – прошепелявил убийца, дожидаясь, пока дружки отряхивали грязь с портков.
Когда Данила вошёл в их новый дом, он уткнулся взглядом в чёрный стол. Вытянувшись, как срубленный ствол могучего кедра, на деревянном полотне лежал мёртвый отец. Данила никак не мог впустить в себя мысль, что тятя неживой. Пышущий силой и здоровьем человек, любящий муж и отец теперь был лишь мёртвым телом на деревянном столе. Лицо мальчишки перекосилось, из глаз хлынули слёзы. Он давно считал себя взрослым и не позволял себе плакать. Данила тёр глаза кулаками, а захлестнувшее его горе всё росло и росло внутри, превращаясь в жёсткий и колючий ком.
После похорон мысли метались в голове. Он остался теперь в семье за старшего. Как отдавать деньги, взятые отцом? Что будет с их новым домом? Неужели снова всей семьёй придётся продаваться в крепостные? Тяжесть положения толкала его к поиску неординарного решения…
ХХ век
Самые необычные каникулы:
в центре войны
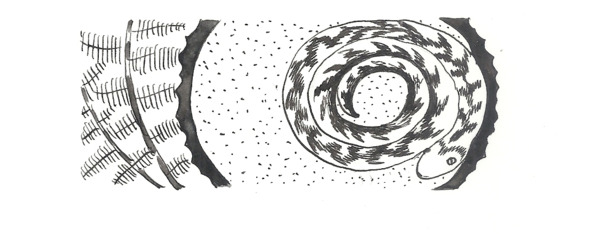
Глеб и раньше видел змей. Но всё как-то мельком, когда те бесшумно ускользали подальше от человека. А эта лежала себе, свернувшись колбасой и приподняв голову, в метре от его ног, смотрела прямо на подростка.
«Гадюка!» – подумал Глеб. С ромбовидными узорами по всему телу, пугающе блестящему на солнце. Прямо как на картинке в той книжке про лесных обитателей. Точно ядовитая. Это не ужик болотный. И не уползает, сволочь. Что она здесь, спала что ли? Не услышала приближения человека? Хорошо ещё, что не наступил. Глеб медленно обхватил руками двухлитровый бидончик, висевший на поясе. «Если бежать, главное – не рассыпать землянику». Красно-розовые ягоды уже заполнили почти весь бидон, до горлышка. На этой полянке как раз можно было добрать доверху и возвращаться к бабушке.
Гадюка пошевелилась. Сердце Глеба забилось чаще. Чего она хочет? Напасть или уползти восвояси? Неподвижные зрачки смотрят, не отрываясь, приплюснутая голова слегка качается из стороны в сторону. Осторожный шаг назад. Ещё один. Предательски хрустнула ветка, но змея осталась на месте. Может, у неё здесь поблизости гнездо? Поэтому и не уползает?
Ну вот, теперь расстояние, вроде, безопасное, можно развернуться и – к бабушке. Главное, не бежать. Когда тебе пятнадцать лет, а в октябре уже будет шестнадцать, стыдно бежать от змеи. Засмеют!
Бабушка Фёкла сидела на поваленном стволе берёзы и, сняв с головы платок, стряхивала с него вездесущую паутину и еловые иглы. Потом обвязала этим платком глиняную гладышку3, доверху наполненную ягодами. Как говорят в Белоруссии, «со скоптором».
– Ба, а я гадюку видел, – как можно более безразличным тоном сообщил внук.
– Да ты что? Испужался, небось? – сочувственно покачала головой пожилая женщина, развенчав этим вопросом всё напускное спокойствие Глеба.
Пора было возвращаться в деревню. Парень время от времени нагибался, срывая спелую июньскую землянику и пополняя свой бидон. Приходить домой с неполным – неслыханное дело.
– Ба, а тебя змея кусала когда-нибудь?
– Бог миловал.
– А если гадюка укусит, что делать-то?
– Надо высосать яд, сразу. Только у того, кто будет это делать, не должно быть ранки во рту.
– А то он умрёт?
– Умрёт, – бабушка говорила спокойно, как будто речь о курице, которой она вчера хладнокровно отсекла голову и понесла в сени ощипывать.
Вот и просвет между стволами. Вышли на простор. На самой границе леса, из недр густого куста орешника Фёкла Платоновна достала бутыль с водой и хлеб с салом. Они всегда своё «подкрепление» оставляли в этом орешнике. Не таскать же с собой лишнюю тяжесть?
Глеб, нагулявший в лесу аппетит, жадно набросился на еду.
– Вот и поснедали4, – крестьянка аккуратно стряхнула крошки с тряпицы в ладонь и отправила их в рот.
Вернулись в деревню ближе к полудню, когда солнце уже высоко забралось на голубое безоблачное небо, освещая буйную зелень садов, красноту созревающих вишен, нависших над плетнями и заборами, и белые цветы шиповника, торчащего из сельских палисадников.
Вымывшись по пояс холодной колодезной водой и переодевшись в чистое, Глеб вышел на крыльцо. Воскресный день в деревне ничем не отличался от будних. Люди занимались своими делами, собаки и кошки старались спрятаться в тени, жужжал шмель, направляясь к одному ему известной цели.
Деревня называлась Броды. Видимо, когда-то, в царские времена, пробегающий за огородами ручей был полноводной рекой, и в этом месте можно было перейти её вброд. Здесь Глеб проводил каждое лето. Это была его вторая Родина. А родился и жил он в Ленинграде. Это почти в тысяче километров отсюда на северо-восток. Наверное, это неправильно так думать – «вторая Родина». Родина одна – Советский Союз. Но уж очень разной была жизнь Глеба там, в городе, девять месяцев в году среди каменных домов и яркого электрического освещения, где по улицам ходят трамваи и автобусы, и здесь, в забытом Богом селе, в восьми километрах от райцентра, где весь быт остался как при царях-императорах. Керосиновые лампы, телеги и ни одной радиоточки.
Глеб потянулся, глянул ещё раз на небо: какой жаркий день! Надо бы сходить в погреб, достать жбан с домашним квасом. Он уже направился было во двор, когда его внимание привлекло облачко пыли на другом конце деревни. Глеб встал на цыпочки, всмотрелся и понял, что это бежит местный деревенский сорванец Колька.
«Чего так несётся?» – подумал Глеб. Может, новость какая? В прошлый раз почтальонша ему доверила принести письмо, пришедшее из Ленинграда, так же бежал, как ошалелый. Запыхавшийся мальчишка остановился напротив Глеба и выпалил:
– Дядя Василь из райцентра приехал…
– Ну и что? Почту привёз?
– Нет, слушай… Война началась.
– Какая война?
– Германия сегодня… утром… напала на Советский Союз, – вставляя глубокие вдохи и выдохи между словами сообщил прибежавший.
И Колька помчался со своей новостью дальше.
Немцы пришли не сразу. Сначала приехал разведотряд на трёх мотоциклах. Прямо посреди деревни один из фашистов дал очередь из автомата по перебегавшему дорогу гусю. Мотоциклисты остановились и несколько минут хохотали. Стрелявший подобрал мёртвого гуся, и все поехали дальше, к дому председателя колхоза. Тот уже ушёл на фронт, в добротной хате жила его семья. Немцы осмотрели все помещения, между собой что-то прокурлыкали, сели на свои тарахтелки и укатили. В другие дома даже не заглянули, тогда партизан ещё не боялись.
Глеб всё это наблюдал из окна. Значит, не сбылись его надежды на то, что немцы здесь не объявятся. Он вспомнил недавний разговор с Колькой. Тот спросил:
– Как думаешь, война скоро кончится?
– Шут её знает… последняя война с немцами несколько лет шла… – авторитетно заявил городской житель.
– Ничёсе… а в Белоруссии воевали? – не отставал пацан.
– Воевали, но сюда не дошли, не боись. В Могилёве ставка царя была. Значит, немцев тут не было. В учебнике про это мало написано, там всё больше про Гражданскую, но я это точно знаю. В другой книжке читал.
Глеб и в самом деле надеялся, что фашистов остановят и откинут назад ещё до конца лета, и он спокойно поедет в Ленинград. Мама в самом начале войны послала телеграмму, чтобы он из деревни не выезжал. Дороги бомбят…
Погостить в Белоруссию мать отправляла Глеба по просьбе бабушки, которая очень любила внука. Фёкла Платоновна была человеком прошлого века, о котором Глеб мало знал. Конечно, он читал о трудной жизни во времена империалистического режима, но бабушка вспоминала о том времени всегда с теплотой, как о лучших годах жизни.
– Чего ж там хорошего было при царях? – спрашивал внук, пытаясь утвердиться в собственных представлениях о мрачности и серости дореволюционного прошлого.
– Молодость моя там была, любовь, надежды на лучшее.
– Какая же ты непросвещенная! Это сейчас мы верим в светлое будущее коммунизма, а тогда ещё и не знали об этом! – вспыхивал внук.
– Ну да, ну да… – соглашалась Фёкла Платоновна.
В буфете у бабушки напоминанием о мирной жизни стояли разные фигурки. Глеб как городской житель считал это деревенскими обычаями, а от учительницы литературы в своей ленинградской школе слышал, что фигурки на комоде – это «признак мещанства». А это что-то нехорошее, низкое. Хоть у бабушки фарфоровые куколки и животные стояли не на комоде, а за стеклом, словно в музее, внуку почему-то было стыдно за любимого человека. И однажды он решил об этом поговорить:
– Ба, а зачем у тебя эти куколки, игрушки, ты ведь уже не маленькая?
– Доглядливый ты, внучок. А фигурки ещё от покойницы-матушки мне достались. Не всё сохранить удалось, жись-то разная была. Это будто память моя о семье, о родителях. Давно уж не маленькая, а иногда выну и начну расставлять – так всё, что было и давно быльём поросло, и вспомню. Вот смотри, фарфоровая куколка, ею ещё матушка в детстве забавлялась. Я эту фигурку завсегда на почётное место ставлю.
Глеб прикоснулся к старинной фарфоровой куколке и словно по-новому посмотрел и на бабушку, и на эти игрушки, которые хранили прикосновения и тепло ушедших предков.
Потом, когда пришла весть о взятии немцами Минска, Глеб думал, что в их глухомань те не полезут, обойдут стороной. Но вот всё-таки не обошли. Через два дня после разведчиков в деревню вполз крытый брезентом грузовик, из него высыпал десяток немцев. Из кабины вылез сухопарый офицер, осмотрелся, поправил портупею и лающим языком дал указания солдатам. Двое пошли с ним в дом председателя, остальные заняли соседнюю хату. Хозяевам пришлось съехать к родственникам, перечить новой власти никто не стал. Ни криков, ни тем более стрельбы больше не было. Вообще, первое время жизнь с оккупантами протекала более-менее спокойно. Те заходили в дома, требовали еду – яйца, сало, или курицу… хозяева отдавали, понимая, что сопротивление бесполезно. Но обысков и насилия не было. Даже наоборот. Вот случай.
Ранней осенью сорок первого года один из немцев стирал своё бельё в ручье, потом поднялся на берег, взял из таза новую партию, но по возвращению никак не мог отыскать мыло. А поблизости ошивался Колька.
– Wo ist meine Seife?5 – спросил фриц сослуживца, со скучающим видом сидящего поблизости.
Тот молча показал на Кольку. Первый немец направился к парню, жестами показывая, чтобы тот вернул мыло. Хлопец испуганно замотал головой из стороны в сторону, мол, не понимаю. Фриц решил, что тот отказывается вернуть его личное имущество, разозлился и попытался схватить сорванца за шиворот. Колька увернулся и дал стрекача. Так они бегали по деревне минут десять, немец выдохся и злой вернулся к своему белью. Второй оккупант, держась за живот от хохота, поднял мыло из ямки в траве. Оказывается, оно соскользнуло туда и наговор на парнишку был напрасный.
– Hans, du bist Schwein!6 – презрительно бросил немец второму солдату и медленно направился в дом, превращённый в казарму.
Через несколько минут он вышел с шоколадной плиткой и вручил её перепуганному Кольке.
Это спокойное время закончилось для жителей Бродов уже в декабре. Кто-то обстрелял в лесу немецкий грузовик, везущий оккупантам снаряжение. Водитель успел «дать газу» и оторваться от нападающих, но второй солдат, сидевший рядом с ним, получил ранение в шею и по приезде скончался, не приходя в сознание. Кто стрелял: партизаны или отбившиеся бойцы отступающей Красной армии – никто не знал.
Тогда в деревню нагрянули другие немцы – каратели. Фашисты врывались в каждый дом, и пока солдатня грабила имущество, тучный краснолицый майор-эсэсовец допрашивал жителей. Рядом находился переводчик – хромоногий учитель немецкого из райцентра.
Глеба хотели сначала спрятать в погребе или на сеновале, но решили, что так будет только хуже, и правильно сделали. За это могли и расстрелять. Первым же делом немцы залезли в погреб, вынесли все заготовки, кроме нескольких банок варенья. Обшарили и сеновал, а также сарай и дровник. Даже в отхожее место заглянули.
Вопросы задавали стандартные:
– Сюда приходили советские солдаты или партизаны?
– Нет.
– Есть ли в доме оружие?
– Нет.
Тогда майор ткнул перчаткой в грудь Глебу:
– Сколько лет?
– Четырнадцать ему, – поспешно ответила за него Фёкла Платоновна.
– Как зовут? Где родители? – на этот раз эсэсовец вытянул руку ладонью вперёд в сторону женщины, жест означал «молчать!»
– Глеб Ливинцков. Родители в Ленинграде, – ответил подросток.
Офицер удивился, сказал что-то типа «красивый город», и поинтересовался, знает ли Глеб немецкий язык.
– Нет, – соврал парень. На самом деле он учил Deutsch с четвёртого класса и понимал большинство иностранных слов, услышанных в этой комнате.
– Запишите, – обернулся к адъютанту майор.
Глеб понял фразу без перевода. Немцы пошли в следующий дом, а бабушка Фёкла обняла внука и прошептала: «За какие грехи нам это?»
Подросток уже знал, что фрицы угоняют трудоспособное население в Германию на работы. Скорее всего, он сегодня попал в список, поэтому стал уговаривать бабушку отпустить его к партизанам.
– Через мой труп! – резко ответила Фёкла Платоновна.
Деревня была разорена. В день, когда проводили допросы, немцы забрали оставшуюся домашнюю птицу и увели с подворий всех коров. Оставили только одну, в доме, где жила многодетная семья с маленькими детьми. Говорят, они так громко плакали, что фашисты поспешили убраться.
Всё, чем питались Глеб и его бабушка, была картошка из подпола, в который фрицы не догадались заглянуть, и сухари с остатками варенья. На этом предстояло протянуть до лета, когда что-то вырастет в лесу и можно будет что-то посадить на огороде. Если будет, что сажать. А может, уже кончится война…
Раньше, до прихода карателей, Глеб проводил время в хлопотах по дому, помогая бабушке, а в свободное время делал упражнения для укрепления пресса и бицепсов, читал, рисовал. Он любил рисовать, и мама даже хотела его отдать в художественный кружок. Но мальчик отказался. Намного интереснее было гонять мяч со сверстниками на ближайшем пустыре. Сейчас же, в студёные январские дни сорок второго года, Глеб перестал упражняться и даже читать. Они с бабушкой экономили всё: еду, дрова, керосин, силы. Зато парень стал собираться в дорогу. К партизанам.
На крещение они увидели две волокуши7, на которых тесно друг к другу сидели укутанные в платки молодые женщины из соседней деревни, Рудни. Фёкла вышла на крыльцо:
– Куда это вас?
– Говорют, что в неметчину, – невесело ответила одна из молодух.
Хозяйка дома перекрестилась. А Глеб принял окончательное решение. Этой ночью он не спал. Дождался, когда бабушка заснула, натянул старый дедов тулуп, самые высокие валенки, закинул за спину заранее собранную котомку и вышел в ночь.
Он надеялся, что в такую стужу деревню никто не патрулирует и часовые стоят только у «штаба» – дома председателя, который находился на другом конце села. Ночью действовал комендантский час, и парень, выйдя на улицу, рисковал жизнью. Два километра до Рудни он прошёл быстрым шагом. В этой деревне немцев не было. Может, потому, что она уступала Бродам по размерам, а может, из-за близости леса. Густого, местами непроходимого, опасного леса. Вотчины партизан.
Дорогой Глеб думал о бабушке. Она была малограмотной крестьянкой, всю жизнь работающей руками, от зари до зари… но в то же время неиссякаемым кладезем народной мудрости, добрым и самым близким ему человеком после мамы. Глеб не хотел оставлять её одну, потому что любил. Но ему была противна толкающая его вперёд мысль, что его, как и других, угонят в Германию. Не меньше, чем родных, подросток любил свою Родину.
Во второй с краю хате жила бабушкина двоюродная сестра, Акулина. Глеб постучал в дверь. Почти сразу замерцал огонёк в окне – хозяйка спала чутко.
– Кто? – послышался стариковский голос за дверью.
– Это Глеб, тётя Акулина, откройте.
Скрипнул засов. Уже в сенях керосиновая лампа приблизилась к лицу парня.
– Матка боска! Что ты здесь?.. Случилось чего?
– Нет-нет, всё нормально, я сейчас расскажу.
Они сидели около тёплой русской печи и пили кипяток с ароматными травами, которые хозяйка знала, где собирать, и умела по-особому заваривать.
– Вчера ваших женщин везли к штабу, формируют команду в Германию, – начал Глеб.
– Знаю, знаю… ох, бабоньки, что же с ними будет…
– Так вот, я тоже вроде как в списках… и завтра, наверное, будут наших всех сгребать. Я у вас переночую, а утром уйду к партизанам.
Баба Акулина охнула и перекрестилась на образ в углу.
Ещё до рассвета она разбудила родственника, накормила холодной кашей и отвела к деду Егору – бородатому старику, его хата стояла на отшибе, у леса. Тот выслушал Глеба, неодобрительно покачал головой, но согласился проводить туда, куда тот рвался.
– Сам не найдёшь, сгинешь, – заключил он хмуро.
Они быстро пополнили запасы парня сухарями, крышанами8 и мороженой крольчатиной. Люди отдавали последнее, Глеб это понимал.
– Там в сарае сани небольшие у стены справа, возьми, и быстро надо грузиться, не на плечах же всё тащить… навроде, мы за дровами пошли, шевелись, хлопец, светает уже, – распоряжался хозяин.
Торопила и Акулина:
– Давайте уже, идите с Богом, лес близко, авось никто не углядит, но бережёного Бог бережёт.
– Вы только бабушке передайте, что со мной всё в порядке, она волноваться будет, – попросил Глеб, обнимая на прощанье сердобольную родственницу.
– Сама понимаю, всё-всё, я зачиню9 за вами, – у Акулины навернулись слёзы.
Шли долго, не торопясь ступая на еле заметную среди сугробов утоптанную тропу. Несколько раз останавливались, молча сидели на поваленных стволах, жевали снег. Уже после полудня вышли к балке, Глебу показалось, он увидел следы вдоль неё. Дед Егор скинул рукавицы, сложил ладони лодочкой и поднёс ко рту, будто собираясь дышать на них, отогревая. Вдруг громкое уханье совы раздалось рядом, и Глеб не сразу понял, что звук шёл от деда Егора.
– Это для чего? – наивно поинтересовался юноша.
– Чтобы нас не застрелили раньше времени.
Сначала ничего не произошло, только лёгкий ветерок бежал по балке, снимая снежную стружку с гладких сугробов, но после второй попытки им ответили.
Лагерь оказался небольшим, с десяток землянок, накрытых еловым лапником, для маскировки. Часовой сразу отвёл их к командиру отряда. Тот выслушал, пристально посмотрел на Глеба и спросил:
– Ты винтовку-то хоть держал в руках?
– Только пневматическую… в тире, – признался Глеб.
Жизнь в партизанском отряде была суровой. Продовольствия не хватало. Кашеварили два раза в день, и пайка была мизерной. Сосущий под ложечкой голод теперь был постоянным спутником Глеба. Самодельные печурки в землянках нещадно чадили, и люди по ночам не высыпались, ворочаясь от недостатка кислорода и надоедливых вшей. Через какое-то время эта напасть завелась и в Глебовой одёжке.
– А что сробишь? Звиняйте, бани нема, – хмуро оправдывался командир отряда Иван Семёнович.
Медикаментов тоже не было. Если кто заболел, а зима выдалась суровой, одно средство – кипяток с брусникой. Радовать могло только относительное спокойствие, пули над головой не свистели. Немцы боялись сунуться в лес, особенно зимой. Ходили слухи, что Гитлер не собирался так долго воевать и с зимним обмундированием у фрицев случился провал. А попробуй-ка повоюй в тонкой шинельке в такой мороз. Тут вам не Европа…
В отряде же все люди были крепкие, к комфорту не приученные. Из местных крестьян. К морозу, голоду и вшам терпимые. Только командир – бывший рабочий районного леспромхоза, член партячейки, коммунист. И настойчиво беспокоила его обида: «Я бы сейчас бил фашистскую гадину лицом к лицу в рядах Красной армии, но партия считает, что моё место здесь», – сокрушался он.
Были ещё в отряде два кадровых военных – танкисты. С одним из них, Фёдором, сержантом-наводчиком, Глеб как-то разговорился в наряде. Оказалось, что их соединение из десятка лёгких Т-26 под Оршей сражалось с немецкими «Панцирями» PzII.
– Понимаешь, парень, отступали мы шустро, и разведка в таких условиях ни к чёрту, – поведал Фёдор. – Поступил приказ: держать разъезд. Туда должен был выйти авангард немецкой мотопехоты. Мы заняли позиции в перелеске, на рассвете смотрим – матерь божья!
– Что? – Глеб перевесил тяжёлую винтовку с одного плеча на другое.
– А то, что на разъезд выполз сразу весь батальон. Впереди броня, за ней пехота.
– Ну, а вы?
– А что мы? У нас приказ! Все рванули в бой, а наша машина не завелась! Мы и так и этак, магнето не срабатывает и всё!
Федя присел на пенёк и, зачерпнув ладонью пригоршню снега, умыл лицо. Видно было, что рассказ давался ему нелегко. От переживаний повествование получалось рваное и наполненное эмоциями.
– Короче, на наших глазах все Тэшки сожгли. Эти гады всю Европу на своих монстрах прошли, а для нас это первый бой был… и последний. Мехвод машину всё-таки завёл, перемкнул что-то напрямую, выкатываемся к разъезду, а на нас – вся армада. Командир мой кричит, мол, умереть завсегда успеем, отходим! Разворачиваемся обратно в сторону перелеска, я – башню на 180 градусов, на немцев, и заряжаю первым… а те увидали, и – за нами.
Утекали мы так, отстреливаясь, до большого оврага, деваться некуда, спустились в него и как будто в ловушке оказались. Эти волки нас сверху и накрыли, гусеницу порвало, башню заклинило, мехвода нашего ранило. Мы с командиром под руки его, и наружу, до кустов. Повезло ещё, что пехота отстала сильно, а Панцири в овраг не полезли, на черта им это? Так мы и ушли, а мехвод наш не вытянул… похоронили его ночью в лесу.



