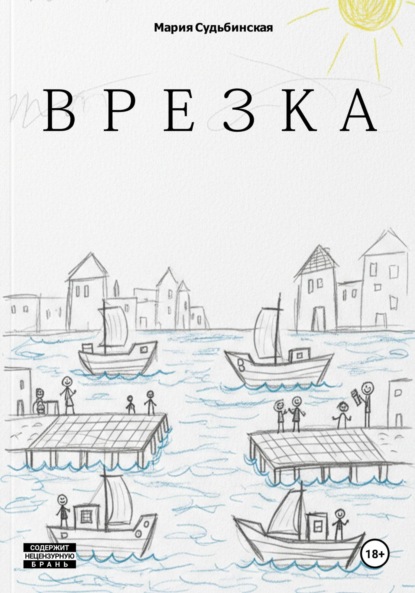
Полная версия:
Врезка
Все смотрели на Ксемена. Он напряженно молчал, глядя в пол. Наконец, он тяжело вздохнул и поднял голову.
– Ладно. – Он выдохнул, будто сдаваясь. – Ладно, чёрт возьми. Идём к Моноклю. Только… – его взгляд стал острым, – только чтобы посоветоваться. Потом никаких участковых. Понятно? Мы просто рассказываем ему и слушаем, что он скажет.
– Это лучше, чем ничего. – Тихо сказал Марьян.
– Тогда приходите в себя и собираемся. – Бросила Софья.
– Опять на улицу идти… – Пробормотал краснолицый Ксемен.
Воздух был колючим, а багровые полосы заката таяли на горизонте. Четверо фигур замерли у подъезда серой пятиэтажки.
Ксемен ритмично бился плечом о холодную железную балку. Софья впилась взглядом в ледяной, намертво вмерзший в дверь, потрепанный домофон. Её пальцы сами собой скручивали край рукава в тугой, мокрый жгут. Марьян то хватал себя за шею, то запускал пальцы в волосы, выдёргивая отдельные пряди с тупыми, щелкающими корнями. Даша молча стояла, глядя в пол.
– Квартира точно та? – Сипло, сквозь зубы, выдохнул Ксемен – его палец замер в сантиметре кнопок.
– Да, сорок четвертая. – ответила Софья. – Она развернулась и, наклонив голову, глядела на улицу из-за плеча.
Ксемен, резко кивнув, всё же вжал кнопку. Домофон залился разухабистой, дешёвой восьмибитной мелодией. В ответ – лишь треск и давящая тишина.
– Может, его нет? – Сказал Марьян полушепотом. Он не мог перестать теребить молнию на куртке. – Может, зря мы…
– Должен быть. – Буркнул Ксемен и снова, с какой-то отчаянной злостью, твердо стал тыкать по кнопкам.
Тяжёлая подъездная дверь с лязгом и скрипом неожиданно распахнулась изнутри. Ледяная корочка и снег посыпались вниз порошком.
На пороге стоял Валентин Андреевич – он, вероятно, направлялся в магазин.
Сквозь очки он в недоумении глядел на них невидимым взглядом. На его лице мелькнула лёгкая усталая улыбка.
– Ребята? – Его голос прозвучал спокойно и приветливо. Но почти сразу он переменился в лице – брови его дрогнули, улыбка сползла с лица. Он услышал их сбивчивое, частое дыхание, скрип ботинок по снегу, нервные подергивания.
Марьян сделал шаг вперёд, его голос дрожал, слова путались и наезжали друг на друга:
– Валентин Андреевич, мы вчера… мы видели… там, у трубы, это…
Софья резко, почти грубо, дёрнула его за рукав, заставив замолчать. Марьян с перепугу дернулся, как кошка, которую застали врасплох. Синие глаза Софьи, остекленевшие от чистого страха, были прикованы к концу улицы. Ксемен замер, как вкопанный – он все еще жался к холодному железу.
Из-за угла, метров за сто, медленно, выплыла знакомая «буханка» грязно-бежевого цвета. Она плавно катилась по ухабистой дороге с неестественной гладкостью и медлительностью. Свет в салоне был выключен, но за грязными, заиндевевшими стёклами угадывалось лишь смутное, расплывчатое пятно лица водителя – бледная маска без черт.
Машина поравнялась с ними. Напряжение висело в воздухе, а когда буханка замедлила ход ещё сильнее и стала ползти по скрипучему снегу, ребята совсем застыли.
Лицо водителя повернулось в их сторону. Не было ни злобы, ни интереса – его сонный взгляд не выражал ничего. Тяжелыми, замученными глазами он скользнул по подросткам и на мгновение задержался на фигуре учителя. Буханка медленно покатались дальше.
– На нас смотрит… – еле слышно прошептала Даша, не поднимая глаз от земли. Её голос был безжизненным и плоским, как будто она констатировала погоду, – он смотрит на нас сквозь стекло. Он думает… куда бы нас спрятать.
Для Ксемена, Софьи и Марьяна этого было более, чем достаточно.
Ксемен оттолкнулся от столба, мотнул головой в сторону Софьи, подхватил под руки Марьяна и Дашу, и, засуетившись, потащил их от подъезда.
– Все! – Прошипел он громко. – Мы уходим!
– Простите! – Выдохнула Софья и пихнула Марьяна с Дашей в спины.
Марьян издал непроизвольный, задыхающийся звук.
Они помчались прочь, не оглядываясь, их ноги вязли в снегу, дыхание рвалось из груди клубами пара. Звук их бега – тяжёлый, панический, беспорядочный – разрывал вечернюю тишину.
Буханка, так и не остановившись, даже не прибавив ходу, плавно тронулась с места и через мгновение растворилась в сгущающихся синих сумерках, как будто её и не было.
Валентин Андреевич остался стоять на пороге в легкой растерянности. Тогда он видел лишь очертания машины, но сейчас чётко слышал отчаянный топот ног бегущих детей. Он почувствовал вихрь паники, смешавшийся с холодным воздухом. Валентин Андреевич медленно поднёс руку к переносице, поправив очки.
– Что же вы такое наделали… – Тихо, одними губами, прошептал он себе под нос.
Естественность
Ксемен что-то язвительно шептал Софье на ухо, та устало отмахнулась, не отрывая взгляда от окна, за которым медленно угасал полярный день. Марьян не писал, а просто сидел, уставившись в одну точку на потёртой поверхности парты, нервно перебирая пальцами надорванный край тетради. Он был не здесь. Он был там, в том карьере.
Валентин Андреевич стоял у доски. Его взгляд, чуть расфокусированный за толстыми линзами, медленно скользил по рядам, но казалось, он видел каждого насквозь – и испачканные чернилами пальцы Ксемена, и напряжённую спину Софьи, и неподвижную фигуру Марьяна.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Полная версия книги
Всего 10 форматов



