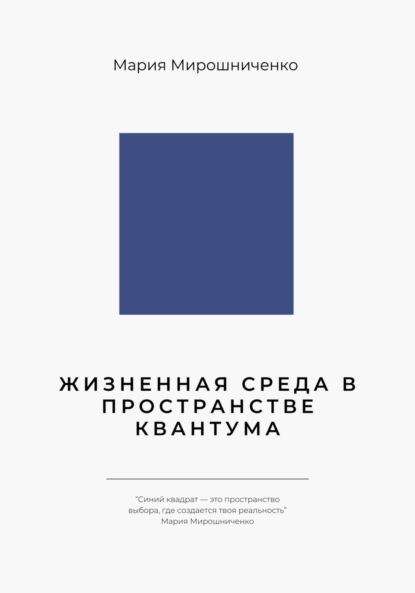
Полная версия:
Жизненная Среда в Пространстве Квантума
Концепция «жизненного пространства», впервые предложенная Куртом Левином, получила развитие в современной психологии через топологический подход, исследующий реальный и потенциальный опыт человека посредством когнитивного картографирования. Жизненное пространство можно определить как комплекс реальных и возможных жизненных событий, формирующихся в результате взаимодействия человека с различными аспектами окружающей действительности – от физических до социально-экономических. Левин выразил это взаимодействие через формулу B = f(P, E), где поведение является функцией от личности и среды. Примечательно, что среда в данной модели рассматривается не как физическая реальность, а как психологическая конструкция, создаваемая через восприятие и интерпретацию человеком. Такой подход создает сложную динамическую систему, где все элементы взаимосвязаны и влияют друг на друга, формируя единое «динамическое поле».
Концепция жизненного пространства представляет собой комплексную систему, где психологические феномены неразрывно связаны с физическими и социальными аспектами человеческого существования. Это пространство имеет концентрическую структуру с человеком в центре и характеризуется различными параметрами: протяженностью, целостностью, степенью взаимосвязанности элементов. Оно включает множество символически разграниченных областей – от личной территории до более широких социальных контекстов, таких как семья, работа или национальная принадлежность.
В эпоху метамодерна цифровая революция радикально трансформировала жизненное пространство человека, создав многослойную виртуальную реальность. Эта новая среда существует в двух режимах: асинхронном, основанном на обмене информацией, и синхронном, обеспечивающем мгновенное взаимодействие. Виртуальное пространство стало неотъемлемой частью человеческого бытия, предоставляя платформу для самореализации, коммуникации и достижения целей. Тотальная цифровизация всех аспектов жизни и появление поколения «цифровых аборигенов» привели к фундаментальному изменению поведенческих паттернов. Виртуальная среда эволюционировала от простого инструмента к полноценному жизненному пространству.
Однако эта трансформация имеет и обратную сторону: несмотря на расширение коммуникационных возможностей и информационную доступность, человек становится более уязвимым, теряя традиционные механизмы социальной поддержки, что может приводить к усилению отчуждения и одиночества.
В изучении психологии транзитивности ключевую роль играет многомерная концепция пространства, включающая различные его измерения: от жизненного и психологического до цифрового и информационного. В контексте современной цифровой эпохи транзитивность рассматривается как фундаментальное свойство реальности, формирующее актуальное жизненное пространство современного человека. Новая теоретическая парадигма психологии транзитивности подчеркивает взаимопроникновение и взаимосвязь переходного и виртуального пространств. При этом интернет-пространство не рассматривается как монолитная структура, а разделяется на несколько категорий: сетевое, виртуальное и дополненное, каждое из которых имеет свои особенности функционирования. Особенно явно взаимосвязь транзитивного и сетевого пространств проявляется в их общих характеристиках: множественности контекстов, многообразии идентичностей и постоянной изменчивости. Адаптивность теоретической модели психологии транзитивности позволяет модифицировать концепцию психологического хронотопа в соответствии с текущими социокультурными изменениями и конкретными исследовательскими задачами.
Показательным примером такой адаптации служат исследования личности в условиях пандемии COVID-19, где основное внимание уделяется анализу соотношения между объективными и субъективными аспектами пространственно-временного континуума в ситуации фрустрации привычного жизненного пространства. Современная эпоха метамодерна предлагает радикальный выбор, демонстрируя феномен постоянного движения между крайностями. Хотя концепция метаксиса, введенная Платоном, описывает равновесное состояние между противоположностями, метамодернизм нельзя считать компромиссом между модерном и постмодерном. Вместо этого он представляет собой непрерывное движение между различными состояниями сознания и мировосприятия: от оптимизма к пессимизму, от активности к пассивности. Подобно осциллографу, метамодернизм курсирует между противоположными полюсами: искренностью и иронией, надеждой и унынием, наивностью и опытностью, сопереживанием и безразличием, единством и фрагментарностью.
Возникает вопрос: применима ли концепция метамодернизма к анализу изменений жизненного пространства, вызванных пандемией COVID-19 в 2020 году? Кризисная ситуация трансформировала привычный уклад жизни людей, превратив дом в многофункциональное пространство и ускорив цифровизацию повседневности. Это заставило переосмыслить значимость живого общения в различных сферах деятельности. Наблюдались противоречивые изменения в организации жизненного пространства: усиливалось социальное неравенство, при котором одни получили больше возможностей, а другие оказались ограничены. Одновременно размывались традиционные социальные границы из-за нестабильности и индивидуализации способов адаптации. Эти процессы были обусловлены возросшей мобильностью и разрушением привычных барьеров, что затронуло все слои общества. Опыт пандемии переосмыслил роль открытых городских территорий в качестве жизненного пространства и заставил пересмотреть подходы к градостроительству. В частности, встал вопрос об отказе от чрезмерной концентрации высотных сооружений. Современные урбанисты и проектировщики всё чаще склоняются к идее замещения высотной застройки малоэтажной. Такой подход обещает создать более комфортное жизненное пространство и положительно повлиять на здоровье горожан.
Особую значимость приобрело расширение зеленых зон в городской среде. Научные исследования подтверждают терапевтический эффект регулярного взаимодействия с природными объектами для снижения и профилактики негативных эмоциональных состояний. Примечательно, что даже домашние растения оказывали благотворное психологическое воздействие на людей в период изоляции и являлись важной частью жизненного пространства. Городские парки и скверы признаны важнейшими факторами поддержания физического благополучия населения, что породило метафорический термин «пространственная вакцина». Реакция на пандемию проявилась в конкретных градостроительных инициативах: 89 городов мира инициировали реорганизацию городского пространства, а 63 мегаполиса занялись оптимизацией транспортной инфраструктуры. Исследования показывают, что наличие зеленых зон в пешей доступности (15–20 минут ходьбы) существенно влияет на продолжительность жизни, способствует развитию когнитивных способностей у детей и старшего поколения, а также благоприятствует общему физическому и психическому состоянию горожан.
Эпоха после пандемии способствовала тому, что общество стало колебаться между двумя полюсами. И это состояние во многом отражает жизненное пространство современного человека. Современный человек балансирует между противоположными реальностями: физической изоляцией и интенсивным виртуальным общением, личными проблемами и мировыми вызовами, разнообразными точками зрения, действенными и бесполезными решениями, достоверными данными и дезинформацией. Особенно показательно противоречие между растущей цифровизацией повседневности и обострившейся потребностью в контакте с естественной средой и природными пространствами. В этой турбулентности люди ищут точки опоры в различных сферах жизни, придавая новый смысл таким базовым ценностям, как семейные узы, научное познание, личностный рост, образовательные возможности, досуговые активности, единение с природой, спортивные занятия или творческая деятельность.
На основании вышеизложенного приходим к следующим выводам:
• Исследование показало, что жизненное пространство в эпоху метамодерна характеризуется дуальностью физического и виртуального измерений, где цифровая среда становится полноценной частью человеческого бытия.
• Выявлена тенденция к постоянному колебанию между противоположными состояниями, что отражает сущность метамодернистского мировосприятия.
• Пандемия COVID-19 ускорила трансформацию жизненного пространства, актуализировав потребность в переосмыслении городской среды и усилив значимость природных пространств.
• Особую роль приобретает баланс между технологическим прогрессом и естественной средой обитания, что формирует новые требования к организации жизненного пространства.
Глава 4. Влияние окружающего пространства на жизнь и сознание человека
Из многих психологических исследований, которые я также приведу ниже, нам известно, что окружающее пространство определяет не только наши ощущения, но и настрой, и поведение, делая нас покорными, готовыми подчиниться более могущественной силе. Это легко заметить по своему состоянию, например, когда мы приходим в больницу, в суд или полицию, или навестить свою маму. Каждый раз мы ощущаем себя абсолютно по-разному, ведь, считывая косвенные и прямые признаки, мы формируем впечатление в моменте, здесь и сейчас.
Например, зайдя в продуктовый магазин или торговый центр за чем-то конкретным, я часто обнаруживаю себя покупающей даже то, что не планировала. Находясь в особом гипнотическом состоянии, я начинаю тратить деньги на ненужное. В этот момент самоконтроль у меня отсутствует или снижен до минимума. То же самое замечают и все остальные, с кем я обсуждала данную тему. Углубляясь в изучение данного вопроса, я обнаружила, что это результат тщательной работы оформителей торговых помещений. Участвуя в гонке за покупателем, они изобретают всё более изощренные способы привлечения внимания.
Прогуливаясь с дочкой по парку, я как-то заметила, что она реагирует на запахи, распространяющиеся в воздухе. Например, какао и попкорн вызывали у нее особо бурный восторг и желание что-то съесть. А проходя мимо ярмарки с яркими вывесками и освещением, мы неизбежно вовлекались в происходящий там балаган.
Новейшие исследования о внутренних механизмах работы головного мозга, полученные учеными за последние сто лет, дают нам всё более подробное представление о структуре умственного процесса. Мы в значительной степени можем объяснить и даже представить свое поведение в повседневной жизни.
Выдающийся нейробиолог Антонио Дамаска, изучая пациентов с очаговыми поражениями в области лобной доли, которая ранее считалась высшим пристанищем рациональной мысли, сделал революционное открытие. Он обнаружил, что в результате подобных изменений нарушается способность к адаптивному поведению и принятию решений – именно потому, что пресекаются важные связи между когнитивной и эмоциональной сферами. Оказывается, то самое «шестое чувство», на которое мы порой полагаемся, принимая решения, зарождается как раз в глубинных эмоциональных слоях нашего мозга. Оно является важным проводящим путем, без которого мы не смогли бы ставить себе осмысленные задачи и строить планы. Наши взгляды и суждения, хоть и кажутся в высшей степени рациональными, на самом деле коренятся в наших эмоциональных состояниях.
Выводы о ключевой роли эмоций в регулировании рационального поведения, полученные при изучении последствий травм головного мозга, подтверждаются и исследованиями с применением таких новейших методов, как нейровизуализация и измерение мозговых волн. Зоны, отвечающие за формирование чувств, широко рассредоточены по всему мозгу: от стволовой области, куда поступают входящие импульсы о состоянии тела, до верхних слоев коры – и находятся в тесной взаимосвязи с теми структурами, в которых формируются восприятие и память. Трудно переоценить значимость этих открытий для общего понимания того, как мозг порождает адаптивное поведение.
Однако открытия важны не только для ученых, но и для тех, кто лично заинтересован в поиске способов воздействия на чувства людей. Например, такая бурно развивающаяся область знаний, как нейроэкономика, во многом основывается на представлении, что человеческое поведение следует принципам логики лишь до известного предела. Для получения точной картины того, как мы принимаем решения, необходимо учитывать также и наш особый статус биологической мыслящей машины, запрограммированной на выживание в ходе естественного отбора и склонной к разного рода отклонениям от логики, которым вполне вероятно она обязана своим репродуктивным успехом. Именно эмоции играют в таких отклонениях первостепенную роль.
Все перечисленные выводы о роли эмоций в управлении повседневным поведением также перестраивают наше понимание того, как на нас влияет окружающая обстановка. Идея, что окружение воздействует на чувства, а чувства на желания, сама по себе не оригинальна. Но открытие глубокой взаимосвязи между мыслью и чувством предполагает, что степень, в которой эти воздействия меняют наше поведение и самоощущение, до сих пор сильно недооценена. А недавние достижения говорят о еще более тесных взаимоотношениях нашей внутренней сущности и окружающих нас сооружений и технологий.
Приведу результаты научных исследований и экспериментов, исследующих невербальные коммуникации и их анализ в головном мозге.
В начале 1990-х годов нейрофизиолог Джакомо Риццолатти, работая в Университете Пармы, открыл новый необычный вид нейронов в лобной коре головного мозга. Замеряя активность отдельных нейронов при помощи очень тонких электродов, ученый и его команда обнаружили, что некоторые клетки подавали сигналы с повышенной частотой в те моменты, когда обезьяна тянулась за куском пищи, хватала его и отправляла в рот. То, что подобные клетки, кодирующие и предположительно регулирующие сложные действия, присутствуют в мозге приматов и человека, само по себе не ново. Примечательным было то, что клетки точно так же активизировались, когда макака смотрела видеозапись, на которой другая обезьяна совершала то же действие. Ученый дал этим клеткам название «зеркальные нейроны». Данное открытие было признано первым шагом на пути к пониманию многих ключевых проблем психологии, в том числе нашей исключительной способности так точно чувствовать чужие эмоции.
Данные, полученные ученым Джакомо Риццолатти, позволили сделать вывод, что благодаря устройству мозга мы можем воспроизводить поведенческие паттерны других людей и таким образом лучше их понимать.
Думаю, будет также уместно привести эксперимент, который назвали «иллюзии резиновой руки». В данном эксперименте перед участниками клали муляж человеческой кисти, скрывая настоящую руку за экраном, что бы он не мог ее видеть. При помощи нехитрой процедуры тактильной стимуляции у испытуемого формировали ощущение, будто резиновая рука, это его собственная конечность. Экспериментатор двумя кисточками касался одновременно муляжа и спрятанной руки добровольца. Спустя две-три минуты две трети участников начинали ощущать резиновую руку как часть своего тела. На удар по муляжу молотком у испытуемого была такая же сильная физиологическая реакция, как если бы стукнули по его собственной плоти.
Похожий феномен наблюдался в эксперименте по симуляции внетелесных переживаний. Участник надевал шлем виртуальный реальности и видел собственное изображение со спины, оно передавалось на экран с видеокамеры, установленной позади добровольца. Используя тактильную стимуляцию, экспериментатор касался палкой спины испытуемого, у последнего всякого удавалось сформировать ощущение, будто он наблюдает за своим телом извне.
На одной из конференций TED социальный психолог Эмми Бадди рассказал о своем исследовании, посвященном языку тела. Результаты этой работы говорят о том, что позы способны влиять не только на наше настроение, но и на химические процессы в организме.
Эксперименты Бадди показали, что сильные позы, вроде тех, что принимают супергерои, помогают чувствовать человеку себя увереннее в стрессовых ситуациях. То же самое происходит, когда человек смотрит со стороны на изображение с супергероем в уверенной позе. Изменения происходили и в организме испытуемых: уже после двухминутной тренировки сильных поз у них в крови отмечалось значительное повышение уровня тестостерона и понижение уровня гормона стресса, кортизола.
Как мы можем использовать полученные знания в жизненной среде человека? Знание принципов работы «зеркальных нейронов» позволяет сделать вывод, что наш мозг снабжен мощными и очень пластичными механизмами, благодаря которым мы можем преодолевать барьеры между нашей телесной оболочкой и любым другим человеком или объектом, попадающим в поле нашего действия. Такая система не только объясняет способность человека пользоваться разнообразными технологиями, от карандаша до сенсорного экрана, но и наводит на мысль, что невербальная коммуникация, явная или скрытая, вероятно, и есть тот главный канал, через который мы делимся друг с другом чувствами и воспринимаем эмоциональный посыл, исходящий из окружающих объектов. То есть связь между разного рода непроизвольным поведением, от мимики, поз, движений, до цвета и формы, носит двусторонний характер. Имитируя телесные проявления того или иного эмоционального состояния, подражаем ли мы при этом другим людям или просто считываем информацию с пространства, мы погружаемся в это состояние и в нашем организме происходят соответствующие изменения на физиологическом, биохимическом и гормональном уровнях.
В качестве примера можно привести интерактивные инсталляции, где участникам предлагается включиться в процесс работы художника и двигаться в определенном направлении, взаимодействуя на невербальном уровне с объектом искусства. Участники становятся частью инсталляции или перформанса, проходят через тела людей или фигуры и через какое то время теряют собственную идентичность – начинают испытывать то, что ощущает сам художник. Эти взаимосвязи заложены в нашем организме в виде нейронных цепей, предназначенных для того, чтобы мы могли делиться друг с другом опытом и адекватно реагировать на риски и возможности, таящиеся в нашей среде обитания. Когда участники перформанса движутся и взаимодействуют с объектами и людьми, их мозг автоматически адаптируется к чужому ритму, мимике, жестам, что приводит к изменению их собственного восприятия себя. Через активацию этих нейронных цепей люди начинают чувствовать себя частью единого процесса, временно теряя личные границы и идентичность. Этот механизм работает не только в искусстве, но и в повседневной жизни – например, когда мы подсознательно копируем позу или интонацию собеседника или чувствуем эмоции другого человека, просто наблюдая за ним.
Из негативных аспектов хотелось бы отметить, что развитие когнитивной нейробиологии и появление технологий, позволяющих быстро собирать и анализировать огромные объемы данных об индивидуальном поведении, открывает новые беспрецедентные возможности для подключения к нашему мозгу и вторжения в тот мир, который мы так старательно выстраиваем сами для себя. Нигде эти риски так ни высоки, как в свете эмоций и чувств, психических факторов, которые, как мы теперь понимаем, лежат в основе наших действий. Так как влияние может быть двусторонним, специалистам, занимающимся исследованием жизненной среды, необходимо тщательно анализировать различные факторы при работе с клиентами.
Мы можем полюбить место, свою квартиру или здание, почти так же, как можем полюбить человека. Настоящая любовь развивается со временем и по мере накопления положительного опыта. Длительное общение с другим человеком взращивает в нас чувства нежности, доверия и близости. Похожим образом наши постоянные посещения какого либо места, то время, которое мы там проводим, и впечатления, которые мы там получаем, могут породить глубокую привязанность. Так же и архитектор, который любит и восхищается каждым своим проектом. Багаж прошлого эмоционального опыта, с которым мы вступаем в отношения, зачастую имеет не меньшее значение, чем ощущения, возникающие в новом месте.
Но в отношениях с другим человеком мы вовсе не всегда ищем любви. Иногда мы не заинтересованы в длительной и нежной привязанности. Мы ищем острых ощущений, эмоциональной встряски, мимолетного кайфа. Попросту говоря, нами движет страсть, а порой даже вожделение.
В своих исследованиях инженер Брендан Уолкер открыл неожиданный источник идей о том, как создавать возбуждающие места. Он собирал рассказы преступников с описанием возбуждения, испытанного ими во время совершения противоправных действий. Джек Кац, криминолог из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA), в своей книге «Соблазны преступления» анализирует мотивации различных типов преступников, от обыкновенных магазинных воришек до хладнокровных киллеров. (Jack Katz, Seductions of Crime: Moral and Sensual Attractions in Doing Evil (Basic Book, New York, 1990)).
Взяв за основу наблюдения Каца, Уолкер пошел дальше и создал веб-сайт под названием Chromo 11, приглашая пользователей делиться наиболее сильными из пережитых ощущений. Подборка интервью на этом сайте демонстрирует широкий разброс ощущений, которые могут считаться острыми. Занятия экстремальным видом спорта, события в новостях, вызывающие резкий всплеск адреналина, эротически заряженные эпизоды и многое другое. Уолтеру удалось продемонстрировать, что при помощи его уравнений, которые были выведены на основе феноменологических отчетов об эмоциях, вызванных экстремальными приключениями, можно проводить анализ паркового аттракциона на способность вызывать острые ощущения.
С помощью «фактора острых ощущений» можно прогнозировать, какие эмоции в среднем должны испытывать клиенты. Именно этими разработками о зонировании и стали пользоваться бизнесмены индустрии развлечений в США.
Такое зонирование показывает, что жителям городов особенно необходимы яркие эмоции и сенсорное разнообразие, компенсирующие монотонность урбанистической среды и психологическую перегрузку. В отличие от более спокойных природных территорий, где человек может восстанавливать внутренний баланс через гармонию с окружающей средой, городская жизнь требует более интенсивных стимулов. Парки развлечений, яркие фасады, интерактивные арт-пространства и динамическая архитектура – всё это становится способом эмоциональной разгрузки и обновления восприятия. В условиях плотной городской застройки такие пространства играют роль катализаторов энергии, позволяя человеку почувствовать себя живым, вовлечённым в процесс и временно выйти за рамки привычной реальности.
Взаимосвязь, которую я пытаюсь описать, становится очевидной, если сравнить наши впечатления от повседневной жизни. Где определенная рутина и следование одним и тем же привычкам делают повседневность довольно скучной и монотонной. Действия становятся буквально запрограммированными и выверенными по часам. Наш активный, сознающий, воспринимающий разум в ситуации постоянной сенсорной депривации просто отключается, впадает в спящий режим, убаюканный монотонным повторением заученных действий.
Также можно обратить внимание, что когда мы рассказываем какие-то истории под вечер нашим близким или друзьям, это самые эмоционально заряженные сцены и события, ломающие привычную повседневную обыденность. Мы с любопытством наблюдаем за тем, как кто-то ругается и жестикулирует, и с неменьшим любопытством, когда перемещаются светящиеся мигающие объекты. Именно такие эмоции, пусть они и не обязательно подпадают под эффект острых ощущений, помогают нам осмыслить окружающую обстановку и ее воздействие. «Бешеный выплеск адреналина, который дают нам несколько секунд» – это метафора, что мы ценим неожиданные впечатления в своей жизни.
Как еще один пример смелой попытки измерить психологическое состояние человека в окружающей его среде стал проект еMotion, возглавленный доктором Мартином Трендле из Университета прикладных наук в Швейцарии. Цель данного проекта – сделать созерцание искусства в музеях и галереях более волнующим и притягательным. В исследовании использовались те же новейшие инструменты, что и в лаборатории острых ощущений Брендана Уолкера, но только теперь с их помощью измеряли движения, взгляды и физиологический тонус людей во время посещения музея.
Посетителям специально спроектированной выставки предлагалось надеть особую перчатку, отслеживающую их перемещение по галерее. С помощью бесконтактных датчиков приближения фиксировались маршруты в каждом из залов экспозиции, скорость шага и длительность остановок перед конкретными объектами. Перчатка мониторила некоторые аспекты эмоционального состояния участников, определяя электропроводность кожи и частоту сердечных сокращений. Экспериментаторы также собирали демографические данные об участниках и проводили с ними интервью, чтобы затем оценить влияние на их реакции таких переменных, как предпочтения и эрудиция в сфере изящных искусств. Результаты эксперимента были представлены в виде серии любопытнейших визуализаций. На схему перемещений зрителей в пространстве была наложена информация об их соответствующем физиологическом состоянии.



