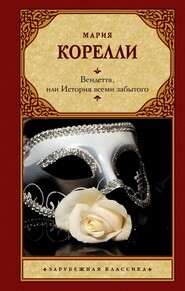скачать книгу бесплатно
Вендетта, или История всеми забытого
Мария Корелли
Зарубежная классика (АСТ)
Граф Фабио Романи, которого все считают одной из жертв эпидемии холеры, бушевавшей в Неаполе в конце XIX века, «воскресает из мертвых»… Однако, возвратившись домой, он с ужасом понимает: там его никто не ждет… Красавица жена Нина и лучший друг Гвидо, давно состоявшие в тайной связи, планируют свадьбу и считают дни до окончания траура.
Потрясенный предательством до глубины души, граф Романи бросает вызов судьбе и решает посвятить свою жизнь изощренной мести… И для начала он выдает себя за другого человека, чтобы вновь завоевать любовь Нины, дружбу Гвидо и уважение в обществе…
Мария Корелли
Вендетта, или История всеми забытого
Глава 1
Я, пишущий эти строки, – мертвец. Я мертв совершенно официально, в полном соответствии с законом, я умер и похоронен. Расспросите обо мне в моем родном городе, и вам ответят, что я стал одной из жертв холеры, бушевавшей в Неаполе в 1884 году, и что мои бренные останки покоятся в родовом склепе моих предков. Но все же – я жив! Я чувствую, как в моих жилах струится горячая кровь, что текла в них тридцать лет, кровь, придающая сил мужчине в расцвете сил. Она делает мой взгляд острым и зорким, мышцы становятся крепкими, словно сталь, руки обретают железную хватку, а тело – стройную и гордую осанку. Да! Я жив, хоть и объявлен мертвым, жив и преисполнен сил. И даже скорбь и невзгоды не оставили на мне следов, за исключением одного. Мои волосы, некогда иссиня-черные, сделались белыми, как снег на склонах Альп, хотя густые кудри вьются, как прежде.
– Что-то наследственное? – спрашивает один врач, осматривая мои побелевшие локоны.
– Внезапное нервное потрясение? – предполагает другой.
– Длительное пребывание на палящем солнце? – намекает третий.
Никому из них я не даю ответа. Однажды я ответил на подобный вопрос. Я поведал свою историю человеку, с которым познакомился совершенно случайно – известному своими успехами в медицине и добротой. Он выслушал меня до конца с явным недоверием и тревогой и намекнул на возможность моего сумасшествия. С тех пор я никому ничего о себе не говорю.
Однако теперь я пишу. Я нисколько не опасаюсь преследований и могу безбоязненно изложить всю правду. Я могу обмакнуть перо в собственную кровь, если захочу, и никто не посмеет мне помешать! Ибо меня окружает зеленое безмолвие бескрайних тропических лесов Южной Америки – величественное и непоколебимое безмолвие девственной природы, почти не тронутой безжалостной поступью человеческой цивилизации, обитель чудесного спокойствия, едва нарушаемого трепетом крыльев и нежным пением птиц, а также тихим шепотом или грозным ропотом играющих в небесах вольных ветров. Я обитаю внутри этого волшебного круга, и здесь я возношу ввысь свое отягощенное сердце, словно наполненную до краев чашу, которую потом изливаю на землю до последней капли содержащихся в ней желчности и злобы. Мир должен узнать мою историю.
«Мертв – и в то же время жив! Как такое возможно?» – спросите вы. Ах, друзья мои! Если вы хотите быть уверены, что действительно избавились от своих умерших родственников, вам следует их кремировать. Иначе никому не ведомо, что может произойти! Кремация – лучший и единственно верный способ. Это чистая и безопасная процедура. Отчего против нее должны существовать какие-то предубеждения? Разумеется, лучше предать останки тех, кого мы любили (или делали вид, что любили), очищающему огню и свежему воздуху, нежели поместить их в холодный каменный склеп или же опустить в сырую вязкую землю. Ведь в глубокой могиле таятся омерзительные твари – существа гадкие, о которых не принято говорить: длинные черви, осклизлые особи с незрячими глазами и ненужными крыльями, уродливые отбросы мира насекомых, рожденные в ядовитых испарениях. Существа, самый вид которых может вызвать у вас, о изнеженная дама, приступ истерики, а вас, о крепкий мужчина, заставит содрогнуться от отвращения! Однако существует нечто худшее, чем чисто природные явления ужасного свойства, сопутствующие так называемому «христианскому» погребению, и это ужасная неуверенность и неопределенность. Что, если после того, как мы поместили прочный гроб с останками горячо любимого покойного родственника в склеп или же опустили его в яму в земле, после того как носили подобающие траурные одежды и придавали нашим лицам долженствующее выражение тихой и смиренной печали, – что, спрашиваю я, если после всех этих мер, должных обеспечить надежность и безопасность, они окажутся на самом деле недостаточными? Что, если в узилище, куда мы заключили горько оплакиваемого усопшего, двери окажутся не столь крепкими, как мы наивно полагали? Что, если прочный гроб развалится под натиском исполненных ярости и неистовства пальцев и наш покойный дорогой друг окажется не мертв, а, подобно библейскому Лазарю, воскреснет, дабы снова требовать от нас привязанности? Разве нам тогда не суждено будет горько пожалеть о том, что не удалось прибегнуть к надежному и испытанному методу кремации? Особенно если мы приобрели земные блага или деньги, оставленные нам столь заслуженно оплакиваемым усопшим! Ибо мы суть обманывающие себя лицемеры – не многие из нас искренне скорбят по мертвым и чтят их память с истинной нежностью и любовью. И все же, видит Бог, они могут нуждаться в куда большем сочувствии, нежели мы себе представляем!
Однако позвольте мне вернуться к тому, что я должен исполнить. Я, Фабио Романи, недавно скончавшийся, намерен подробно изложить череду событий одного недолгого года, года, вместившего муки и страдания, которых хватило бы на целую жизнь! Всего лишь год! Один стремительный удар кинжала Времени! Он пронзил мое сердце, и незаживающая рана по-прежнему кровоточит, и каждая капля крови падает на землю позорным пятном!
Одной тяготы жизни, столь близкой многим, я никогда не испытывал – бедности. Когда мой отец, граф Филиппо Романи, скончался, оставив меня, тогда семнадцатилетнего юношу, единственным наследником своего огромного состояния и единственным главой знатного рода, нашлось множество друзей с самыми искренними намерениями, которые со свойственной им добротой пророчили мне самое мрачное будущее. Попадались даже такие, кто ожидал моей физической и моральной гибели с некоторой степенью злорадного предвкушения, – и при этом они являлись порядочными людьми. Они пользовались уважением и располагали обширными связями, их слова имели вес, и некоторое время я сам являлся предметом их злонамеренных страхов. Согласно их измышлениям, меня ожидала участь азартного игрока, расточителя, пьяницы и неисправимого женолюба самого распутного свойства. Тем не менее, как это ни странно, я не стал подобным субъектом. Хоть я и был неаполитанцем со свойственными уроженцам нашего края пламенными страстями и вспыльчивостью, однако я испытывал врожденное презрение к низменным порокам и отвратительным необузданным страстям. Игра казалась мне помутняющей рассудок глупостью, пьянство – разрушителем здоровья и разума, а безнравственное мотовство – издевательством над бедняками. Я сам выбрал себе образ жизни – нечто среднее между простотой и роскошью, здравое совмещение домашнего уюта с приятными светскими увеселениями, размеренное существование с соблюдением разумных пределов, которое не утомляло ум и не вредило телу.
Я жил на отцовской вилле, в миниатюрном дворце из белого мрамора, стоявшем на лесистом холме с видом на Неаполитанский залив. Мой уголок для игр и развлечений окаймляли благоухающие апельсиновые и миртовые рощи, где сотни голосистых соловьев возносили свои любовные трели к золотистой луне. Искристые фонтаны били в огромных каменных бассейнах, украшенных изысканной резьбой, и их прохладный шепчущий плеск освежал горячее безмолвие жарких летних дней. В этом тихом пристанище я мирно прожил несколько счастливых лет, окруженный книгами и картинами, часто принимая друзей – молодых людей, чьи вкусы более или менее совпадали с моими и кто мог в равной мере по достоинству оценить и древний фолиант, и букет и аромат дорогого вина.
Женщин я видел редко или не видел их вовсе. Сказать по правде, я подсознательно их избегал. Родители дочерей на выданье часто приглашали меня в гости, но я по большей части отклонял подобные приглашения. Любимые книги предостерегали меня касательно женского общества, и я верил и следовал этим предостережениям. Подобное поведение вызывало насмешки со стороны тех моих друзей, которые предавались любовным похождениям, однако их веселые шутки о том, что они называли моей «слабостью», нисколько меня не задевали. Я верил в дружбу куда сильнее, чем в любовь, и у меня был друг, за которого в то время я бы с радостью отдал жизнь и к которому испытывал самую глубокую привязанность. Он, Гвидо Феррари, тоже иногда присоединялся к добродушному подшучиванию, которое я вызывал своей неприязнью к женщинам.
– Да полноте, Фабио! – восклицал он. – Не испытать тебе полноты жизни, пока ты не вкусишь нектара розовых губ! Не разгадать тебе тайны звезд, пока ты не погрузишь свой взор в бездонную глубину глаз юной девы! Не познать тебе блаженства, пока ты не сомкнешь жарких объятий на тонкой талии и не услышишь биения охваченного страстью сердца в такт своему! Оставь заплесневелые фолианты! Поверь, во всех этих древних мрачных философах не было ни капли мужского, в их жилах текла не кровь, а водица, а их клевета на женщин являла собой лишь вздорную болтовню, порожденную их же заслуженными неудачами и разочарованиями. Лишенные главной радости жизни станут охотно убеждать других, что к ней не стоит стремиться. Что же, друг мой! Ты, наделенный остроумием, сверкающим взором, веселой улыбкой, гибким телом, – и не пополнишь ряды влюбленных? Что там говорит Вольтер о слепом боге?
Кто бы ты ни был – вот твой властелин,
В минувшем, настоящем иль грядущем!
Когда мой друг наставлял меня подобным образом, я улыбался, но ничего не отвечал. Его доводы не убеждали меня. Но все же я любил его слушать – голос его звучал мягко и нежно, как пение дрозда, а глаза говорили куда красноречивее слов. Видит Бог, я любил его! Бескорыстно, искренне, с той редкой нежностью, с которой дружат школьники, но которая не часто свойственна зрелым мужчинам. В его обществе я был счастлив, а он, казалось, – в моем. Мы проводили вместе большую часть времени, он, как и я, в отрочестве лишился родителей и поэтому сам строил свою жизнь в соответствии со своими вкусами и желаниями. Своим занятием он выбрал искусство и, хоть и стал довольно успешным живописцем, был столь же беден, как я богат. Я старался различными способами исправить эту ошибку судьбы с должной предусмотрительностью и деликатностью и обеспечивал ему столько заказов, сколько мог, не возбуждая в нем подозрений и не уязвляя его гордость. Ведь он испытывал ко мне сильную привязанность – наши вкусы и пристрастия во многом совпадали, и я не желал себе ничего большего, чем пользоваться его доверием, дружбой и преданностью.
В этом мире никому, пусть даже самому безобидному существу, не позволено постоянно оставаться счастливым. Судьба – или же ее прихоть – не может наблюдать нас в длительном состоянии покоя. Достаточно чего-то совершенно обыденного – взгляда, слова, прикосновения, – и вот! Крепкие узы давних привязанностей оказываются разорванными, и спокойствие, представлявшееся нам столь незыблемым и нерушимым, наконец заканчивается. Подобные перемены произошли со мной, как, конечно же, происходят и со всеми. Однажды – как хорошо я это помню! – душным вечером мая 1881 года я был в Неаполе. День я провел на своей яхте, лениво и медленно плавая по заливу, держа курс по слабому ветерку. Из-за отсутствия Гвидо (он на несколько недель отправился в Рим) я пребывал в некотором одиночестве и, когда мое легкое судно уже заходило в гавань, испытывал какую-то задумчивость и неуверенность, которые вскоре сменились подавленностью. Несколько матросов, составлявших экипаж моего парусника, разбрелись кто куда, как только сошли на берег, – каждый направился в свои любимые места развлечений или пороков, – но я был не в том настроении, чтобы веселиться. Хотя в городе у меня имелось много знакомых, мне были не по душе те удовольствия, которые они могли мне предложить. Я неспешно шагал по одной из главных улиц, размышляя, не возвратиться ли мне пешком в свой дом на холме, как вдруг услышал пение, а вдали разглядел мелькавшие белые одежды. Стоял май, месяц Пресвятой Девы, и я сразу заключил, что ко мне, очевидно, приближается крестный ход в ее честь. Частью от скуки, частью из любопытства я остановился и стал ждать. Поющие голоса звучали все ближе, я увидел священников, псаломщиков, раскачивавшиеся золотые кадила, полные ладана, горящие свечи, белоснежные одеяния детей и девушек – и затем внезапно вся живописная красота процессии закружилась у меня перед глазами сверкающим яркими красками пятном, из которого на меня глядело одно лицо! Лицо, сияющее, как звезда, из пышного облака длинных янтарных локонов. Лицо с легким румянцем и нежное, как у ребенка, совершенно очаровательное, освещенное двумя лучащимися глазами, большими и темными, как ночь. Лицо, на котором изящно изогнутые губы улыбались наполовину дразнящей, наполовину сладкой улыбкой! Я не отрываясь смотрел на него, пораженный и взволнованный – красота делает всех нас такими глупцами! Это была женщина – представительница той половины, которой я не доверял и которую избегал, – женщина в самом начале цветения юности, девушка пятнадцати или, самое большее, шестнадцати лет. Ее вуаль завернулась назад случайно или по намерению, и на один недолгий миг я окунулся в соблазняющий душу взгляд и колдовскую улыбку! Процессия прошла, видение исчезло, но в тот краткий миг прежняя эпоха моей жизни навсегда завершилась и началась новая.
Разумеется, я на ней женился. Мы, неаполитанцы, в таких вопросах времени не теряем. Нам не хватает благоразумия. В отличие от холодной крови англичан, наша быстро струится по жилам, она горяча, как вино или солнце, и не нуждается в надуманных стимулах. Мы любим, мы желаем, мы обладаем, а затем? Мы устаем, скажете вы? Эти южные народы так непостоянны! Вовсе нет – мы устаем гораздо меньше, чем вы думаете. А разве англичане не устают? Разве их не одолевает тайная тоска, когда они сидят в укромном уголке своего «дома, милого дома» с растолстевшими женами и все время прибавляющимся семейством? На самом деле – да! Однако они слишком осторожничают, чтобы сказать об этом вслух.
Нет нужды излагать историю моего ухаживания – оно было недолгим и упоительным, как превосходно исполненная песня. Препятствий никаких не возникло. Девушка, чьей руки я добивался, была единственной дочерью разорившегося флорентийского дворянина с мотовским характером, который едва сводил концы с концами, испытывая судьбу за игровым столом. Дочь его воспитывалась в монастыре, известном своей строгой дисциплиной, и ничего не знала о мирской жизни. Она была, как уверял меня расчувствовавшийся до слез родитель, «невинна, словно цветок на алтаре Мадонны». Я поверил ему: ибо что могла эта прекрасная юная дева с тихим голосом знать даже о некоей тени зла? Мне не терпелось сорвать эту дивную лилию для своего горделивого обладания, и ее отец радостно вручил мне ее, без всякого сомнения в душе поздравив себя со столь состоятельной партией, которая досталась его дочери-бесприданнице.
Мы поженились в конце июня, и Гвидо Феррари почтил нашу свадьбу своим милым и учтивым присутствием.
– Клянусь Бахусом! – воскликнул он после окончания брачной церемонии. – Мое учение пошло тебе на пользу, Фабио! В тихом омуте черти водятся! Ты проник в шкатулку Венеры и выкрал оттуда драгоценнейший камень! Ты отыскал самую прекрасную девушку в Королевстве обеих Сицилий!
Я сжал его руку и ощутил слабые угрызения совести, поскольку он перестал занимать главное место в моей жизни. Я почти пожалел об этом. Да, в первое утро после женитьбы я оглянулся на былые дни – уже далекие, хоть и недавние – и со вздохом понял, что они закончились. Я взглянул на Нину, свою жену. И этого было достаточно! Ее красота ослепляла и поражала меня. Тающее томление ее огромных лучистых глаз будоражило мне кровь – я забывал обо всем, кроме нее. Я пребывал в возвышенном бреду страсти, где любовь, и только любовь, является основой мироздания. Я возносился на самые вершины блаженства, где дни текли праздниками в сказочной стране, а ночи – снами восторга наяву! Нет, я не знал усталости! Красота моей жены не пресыщала меня, наоборот, она с каждым днем становилась все прекраснее. Я никогда не замечал в ней иных качеств, кроме привлекательных, и через несколько месяцев она досконально изучила все грани моего характера. Она обнаружила, что нежными взглядами могла подчинить меня своей воле и превратить в преданного раба, она управляла моей слабостью, превратив ее в свою власть надо мной. Она это прекрасно знала – а чего она не знала? Я терзаю себя этими глупыми воспоминаниями. Все мужчины старше двадцати лет успевают изучить различные женские уловки, милые и игривые приемчики, которые ослабляют волю и лишают сил даже самых стойких героев. Любила ли она меня? О да, полагаю, что так! Оглядываясь на те дни, могу откровенно сказать: я верил, что она любила меня, как любят своих мужей девятьсот жен из тысячи, а именно за то, что они могут от них получить. А я для нее ничего не жалел. И если мне хотелось боготворить ее и возносить до ангельских высот, тогда как она была всего лишь самой обычной женщиной, то это являлось моим недомыслием, которое нельзя было вменить ей в вину.
Мы зажили открытым домом. Наша вилла стала центром притяжения для сливок светского общества Неаполя и его окрестностей. Моя жена пользовалась всеобщим восхищением, а ее прекрасное лицо и изысканные манеры стали предметом обсуждения по всему городу. Мой друг Гвидо Феррари относился к тем, кто громче всех восхвалял ее достоинства, а возвышенное почитание, которое он проявлял по отношению к ней, еще больше расположило меня к нему. Я верил ему как брату, он приходил и уходил, когда ему было угодно, он дарил Нине цветы и изящные безделушки, приходившиеся ей по вкусу, и относился к ней с братской нежностью и добротой. Мое счастье представлялось мне абсолютным – у меня были любовь, богатство и дружба. А чего более может желать человек?
К сладости моей жизни добавилась еще одна капля меда. В первое майское утро 1882 года родился наш ребенок – девочка, прелестная, словно один из белых анемонов, что в ту пору росли в лесах, окружавших наш дом. Малышку принесли мне на тенистую веранду, где я сидел за завтраком вместе с Гвидо, – крошечный, почти бесформенный комочек, завернутый в мягкую кашемировую ткань и старые кружева. Я с нежным благоговением взял на руки хрупкое создание, малышка открыла глаза. Они были большие и темные, как у Нины, и, казалось, в их чистых глубинах все еще отражался свет неба, под которым ее вот-вот пронесли. Я поцеловал ее личико, Гвидо последовал моему примеру, и ясные тихие глазки посмотрели на нас со странной полувопрошающей торжественностью. Сидевшая на ветке жасмина птица затянула тихую нежную трель, подувший легкий ветерок заиграл белыми лепестками розы у наших ног. Я вернул младенца няньке, ожидавшей, чтобы забрать его, и с улыбкой сказал:
– Передайте моей жене, что мы поприветствовали ее майский цветок.
Когда нянька ушла, Гвидо положил мне руку на плечо. Лицо его сделалось необычно бледным.
– Ты славный парень, Фабио! – внезапно воскликнул он.
– Действительно! Что это вдруг? – полунасмешливо спросил я. – Я не лучше остальных.
– В тебе меньше подозрительности, чем в большинстве людей, – ответил он, отвернувшись от меня и лениво поигрывая веткой клематиса, вившейся по столбу веранды.
Я с удивлением взглянул на него.
– О чем это ты, друг мой? Разве у меня есть причина кого-то подозревать?
Он рассмеялся и снова сел за накрытый к завтраку стол.
– Да нет же! – воскликнул он, посмотрев на меня открытым взглядом. – Ведь в Неаполе воздух буквально напоен подозрениями, кинжал ревности всегда готов ударить, справедливо или нет, и даже дети искушены в пороках. Кающиеся грешники исповедуются священникам, которые куда более грешны, чем те, кто приходит к ним на исповедь. Господи Боже! В теперешнем обществе, где супружеская верность – это фарс… – Он на мгновение умолк, а затем продолжил: – Разве не прекрасно дружить с таким человеком, как ты, Фабио? С человеком домовитым и счастливым в семейной жизни, на небосклоне доверия которого нет ни малейшего облачка?
– У меня нет причин для недоверия, – произнес я. – Нина так же невинна, как дитя, которому она сегодня стала матерью.
– Правда! – воскликнул Феррари. – Истинная правда! – Он с улыбкой посмотрел мне прямо в глаза. – Она чиста, словно девственный снег на вершине Монблана, чиста, как безупречный алмаз, и недоступна, как самая далекая звезда! Не так ли?
Я согласился с некоторой долей беспокойства: что-то в его поведении меня озадачило. Наш разговор вскоре перешел на другие темы, и больше я над этим вопросом не задумывался. Однако настало время – и очень скоро, – когда у меня появились веские причины припомнить каждое сказанное им слово.
Глава 2
Всем известно, каким выдалось в Неаполе лето 1884 года. Газеты всего мира пестрели описаниями его ужасов. Холера шествовала повсюду, словно всеразрушающий демон, и от ее смертельного прикосновения множество людей, молодых и старых, падали и умирали прямо на улицах. Жуткая болезнь, порожденная грязью и преступным пренебрежением самыми элементарными нормами гигиены, охватила город с чудовищной быстротой, а безрассудная и всеобщая паника была даже хуже холеры. Незабываемая стойкость короля Умберто Первого возымела свое действие на более просвещенные классы, однако среди низших слоев населения Неаполя безраздельно властвовали всепоглощающий страх, дикие суеверия и крайний эгоизм. Один случай может служить наглядным примером происходившего в городе. Некий рыбак, хорошо известный в своей округе, симпатичный и общительный молодой человек, находясь в море в своей лодке, внезапно ощутил первые симптомы холеры. Его понесли к родительскому дому. Старуха, похожая на отвратительную ведьму, увидев приближавшуюся к ее жилищу небольшую процессию и сразу же поняв, что к чему, закрыла и наглухо забаррикадировала дверь.
– Пресвятая Дева! – визгливо кричала она в приоткрытое окно. – Оставьте этого презренного подонка на улице! Неблагодарная свинья! Он заразит свою родную мать, работящую и уважаемую! Святой Иосиф! Кому нужны такие дети? Оставьте его на улице, говорю я вам!
Было бесполезно увещевать это старое чучело в женском обличье. Ее сын, к счастью для него, был без сознания, и после некоторых пререканий его положили у порога, где он вскоре скончался, а тело его, словно мусор, увезла похоронная команда.
В городе стояла невыносимая жара. Небо представляло собой ярко пылающий купол, а гладь залива сделалась неподвижной, словно сверкающее ровное стекло. Тонкий столб дыма, поднимавшийся из кратера Везувия, еще более усиливал ощущение всепроникающего жара, который, казалось, окружил город невидимым кольцом огня. Не слышно было пения птиц, разве что поздними вечерами соловьи в моих садах принимались наперебой выводить мелодии наполовину радостные, наполовину печальные. На лесистом холме, где я жил, было сравнительно прохладно. Я принял все меры предосторожности, чтобы уберечь свой дом от проникновения инфекции. На самом деле я вообще бы уехал из города, если бы не знал, что быстрое бегство из охваченной эпидемией местности зачастую чревато случайными контактами с зараженными. Кроме того, моя жена не нервничала – полагаю, очень красивые женщины вообще редко переживают. Их неуемное тщеславие является превосходной защитой от любой эпидемии, оно не дает развиться главному элементу опасности – страху. Что же до нашей Стеллы, пухленького карапуза двух лет от роду, то она росла здоровым ребенком, не давая ни малейших поводов для беспокойства ни своей матери, ни мне.
Гвидо приехал и остался у нас пожить, в то время как холера, словно острая коса в поле с созревшим зерном, сотнями выкашивала нечистоплотных неаполитанцев. Мы трое вместе с небольшой свитой слуг, которым было строго-настрого запрещено выходить в город, питались мучными блюдами и пили кипяченую воду, регулярно мылись, рано вставали и ложились спать и находились в добром здравии.
Помимо многих прочих достоинств, моя жена обладала также очень красивым и хорошо поставленным голосом. Она пела изящно и выразительно, и часто вечерами, когда мы с Гвидо сидели в саду и курили, после того как маленькая Стелла отходила ко сну, Нина услаждала наш слух соловьиным пением, исполняя песню за песней, чудесные куплеты с припевами, народные песни, полные дикой и необузданной красоты. К этому пению часто присоединялся Гвидо со своим глубоким баритоном, сочетавшимся с ее нежным и чистым сопрано столь же дивно, как журчание фонтана с трелями птиц. Я и теперь слышу эти два голоса, их дуэт по-прежнему насмешливо звенит у меня в ушах. Сильный аромат цветов померанцевого дерева пополам с миртом наполняет воздух вокруг меня, желтая полная луна сияет в иссиня-черном небе, словно золотой кубок Фульского короля, брошенный в морские глубины. И вновь я вижу две головы, склоненные друг к другу, – одну белокурую, другую темноволосую, моей жены и моего друга, тех двоих, чьи жизни были мне в миллион раз дороже моей собственной. Ах, то были счастливые дни – времена самообмана всегда таковы. Мы никогда в полной мере не выказываем благодарность тем искренним людям, что пробуждают нас от снов, – однако именно они суть наши истинные друзья, если бы мы только могли это осознать.
Август выдался самым кошмарным месяцем в Неаполе за все лето. Холера распространялась со страшной скоростью, и люди, казалось, буквально сошли с ума от ужаса. Некоторые, испытывая полное презрение к происходившему, погружались в пьяные оргии, бездумно презрев все вероятные последствия. Одна из подобных буйных пирушек происходила в известном кафе. Восемь молодых людей в обществе восьми девушек поразительной красоты прибыли туда и потребовали отдельный кабинет, где им подали роскошный ужин. В конце трапезы один из веселившихся поднял бокал и предложил тост: «За успех холеры!» Его приветствовали громкими одобрительными криками и аплодисментами, после чего все выпили, разразившись безумным смехом. Той же ночью все до единого гуляки скончались в ужасных мучениях, их тела, как водилось, поместили в неказистые гробы и похоронили один поверх другого в наспех вырытой для этого могиле. Подобные жуткие истории доходили до нас каждый день, однако они не производили на нас устрашающего впечатления. Стелла являла собой оживший талисман против мора. Ее невинная игривость и детский лепет веселили и занимали нас, создавая атмосферу физического и душевного покоя и здоровья.
Однажды утром – в один из самых жарких дней того палящего августа – я проснулся раньше обычного. Намек на возможную прохладу побудил меня встать и прогуляться по саду. Моя жена крепко спала рядом со мной. Я тихонько оделся, стараясь ее не потревожить. Я было собрался выйти из комнаты, когда какое-то неясное чувство заставило меня оглянуться и еще раз взглянуть на нее. Как она была прекрасна! Она улыбалась во сне! Мое сердце забилось сильнее, когда я пристально посмотрел на нее – три года она была моей, и только моей! Мое страстное обожание и любовь к ней с течением времени лишь увеличивались. Я приподнял один из золотистых локонов, рассыпавшихся по подушке, словно солнечные лучики, и нежно его поцеловал. Затем, совершенно не ведая своей дальнейшей судьбы, вышел из дома.
Когда я неспешно прогуливался по дорожкам сада, меня приветствовал легкий ветерок. Его дуновения хватало лишь на то, чтобы поиграть листвой, и все же в нем чувствовался солоноватый привкус, который несколько освежал после тропического зноя минувшего вечера. В ту пору я погрузился в изучение Платона, и во время прогулки мой ум был занят высокими рассуждениями и глубокомысленными вопросами, которыми задавался этот великий философ. Погруженный в возвышенные, но приятные размышления, я зашел дальше, чем намеревался, и в конечном итоге оказался на уединенной тропинке, которой давно перестали пользоваться. Эта извилистая тропка спускалась вниз по направлению к гавани. Там царили полумрак и прохлада, и я почти машинально пошел по ней, пока не заметил пробивавшиеся сквозь густую листву нависавших над тропой деревьев силуэты мачт и размытые очертания белых парусов. Я было собрался повернуть обратно, как вдруг меня поразил какой-то странный звук. Кто-то тихо стонал от сильной боли, словно животное, придушенно кричащее от испытываемых им страданий. Я двинулся на этот звук и увидел лежавшего на траве лицом вниз мальчишку лет одиннадцати-двенадцати, маленького продавца фруктов. Его корзина с товаром стояла рядом, с верхом наполненная манившими к себе персиками, виноградом, гранатами и дынями – дивными плодами, но очень опасными во время холеры. Я тронул мальчишку за плечо.
– Что с тобой? – спросил я. Он судорожно дернулся и повернулся ко мне лицом – красивым, хоть и мертвенно-бледным от страданий.
– Холера, синьор! – простонал он. – Холера! Держитесь от меня подальше, ради Бога! Я умираю!
Меня охватила нерешительность. За себя я не боялся. Но вот ради жены и ребенка следовало соблюдать осторожность. Однако я не мог оставить беднягу без помощи. Я решил отправиться в гавань на поиски врача. Держа эту мысль в голове, я заговорил с ним ободряющим тоном.
– Держись, мой мальчик! – сказал я. – Не падай духом! Не всякая болезнь смертельна. Отдохни здесь, пока я не вернусь. Я приведу врача.
Мальчишка посмотрел на меня удивленным, жалобным взглядом и постарался улыбнуться. Он показал себе на горло и попытался что-то сказать, но тщетно. Затем он свернулся клубочком на траве и скорчился от боли, как смертельно раненное животное. Я оставил его и быстро зашагал вперед. Дойдя до гавани, где стояла невыносимая и удушающая жара, я увидел нескольких бесцельно стоявших мужчин с испуганными лицами, которым я рассказал о мальчишке и попросил помощи. Все они отпрянули от меня, никто не хотел меня сопровождать, даже за предложенные мною деньги. Проклиная их трусость, я поспешил на поиски врача и наконец нашел его. Это оказался француз с желтоватым болезненным лицом, который с явной неохотой выслушал мой рассказ о состоянии, в котором я оставил маленького продавца фруктов, после чего решительно покачал головой и отказался даже двинуться с места.
– Он уже не жилец, – заметил он коротко и холодно. – Лучше ступайте в обитель, чтобы монахи унесли его тело.
– Что?! – вскричал я. – Вы даже не попытаетесь его спасти?
Француз поклонился с насмешливой учтивостью.
– Прошу прощения, мсье! Мое здоровье подвергнется серьезной опасности, если я прикоснусь к умершему от холеры. Позвольте пожелать вам всего хорошего!
И он исчез, захлопнув дверь у меня перед носом. Я страшно рассердился, и хотя от жары и зловония раскаленных улиц у меня закружилась голова, я напрочь забыл об угрожавшей мне опасности и продолжал стоять в охваченном холерой городе, размышляя, как найти помощь. Участливый низкий голос спросил у меня над ухом:
– Вам нужна помощь, сын мой?
Я поднял взгляд. Рядом со мной стоял высокий монах, капюшон его сутаны почти закрывал бледное, но волевое лицо. Это был один из тех героев, кто во имя Христа в то ужасное время откликался на призывы о помощи и бесстрашно противостоял мору там, где безбожные хвастуны-горлопаны разбегались в разные стороны, словно перепуганные зайцы, при первых же признаках опасности. Я почтительно поздоровался с ним и изложил свое дело.
– Я сейчас же туда отправлюсь, – произнес он, и в его голосе прозвучала жалость. – Однако я опасаюсь худшего. У меня есть с собой лекарства, возможно, я еще успею.
– Я пойду с вами, – нетерпеливо сказал я. – Даже собаку нельзя бросить умирать без помощи, а уж тем более бедного мальчишку, у которого, кажется, и друзей-то нет.
Монах внимательно взглянул на меня, когда мы вместе зашагали вперед.
– Вы живете не в Неаполе? – спросил он.
Я представился, моя фамилия оказалась ему знакома, после этого я описал ему расположение своей виллы.
– На вершине холма мы находимся в добром здравии, – добавил я. – Мне непонятна паника, охватившая город. Подобная трусость лишь способствует разгулу холеры.
– Конечно же! – спокойно ответил он. – Но что поделать? Здешние жители любят удовольствия. Их сердца целиком принадлежат мирской жизни. Когда в их рядах появляется неизбежная для всех смерть, они становятся похожими на младенцев, пугающихся темных теней. Вера как таковая… – тут он глубоко вздохнул, – …никак их не сдерживает.
– Но вы, святой отец… – начал я и внезапно остановился, почувствовав резкую пульсирующую боль в висках.
– Я, – мрачно ответил он, – есть слуга Христа. И посему холера никак меня не страшит. Недостойный вроде меня по призванию Всевышнего Владыки готов – нет, желает – взглянуть в глаза всем смертям.
Он говорил твердым тоном, однако без высокомерия. Я смотрел на него с восхищением и собирался было ответить, как вдруг ощутил внезапный приступ головокружения. Я ухватился за его руку, чтобы не упасть. Улица раскачивалась под ногами, как корабль во время шторма, а небеса закружились во всполохах голубого пламени. Приступ медленно проходил, и я услышал голос монаха, будто бы издалека спрашивавшего меня, что случилось. Я заставил себя улыбнуться.
– По-моему, это все из-за жары, – ответил я вяло, словно дряхлый старик. – Слабость какая-то, и голова кружится. Лучше оставьте меня здесь и займитесь мальчиком. О господи!
Последние слова вырвались у меня вместе с мучительным криком. Ноги отказались держать меня, и тело мое пронзила боль, холодная и горькая, словно его нанизали на ледяную сталь, заставившая меня, подергиваясь, опуститься на тротуар. Высокий и жилистый монах без колебаний подхватил меня и наполовину занес, наполовину втащил в какой-то трактир или подобное заведение для бедных. Там он положил меня на деревянную скамью и позвал хозяина, человека, который, казалось, его хорошо знал. Хотя я и испытывал острую боль, но оставался в сознании, видел и слышал все происходившее.
– Хорошенько о нем позаботься, Пьетро! Это богатый граф Фабио Романи. Твои старания будут вознаграждены. А я вернусь в течение часа.
– Граф Романи! Пресвятая Дева! Он подхватил холеру!
– Глупец! – с жаром воскликнул монах. – Как ты можешь это знать? Солнечный удар вовсе не холера, ты, трус! Присмотри за ним, или же, клянусь ключами святого Петра, тебе не найдется места в раю!
От такой угрозы трясущийся владелец заведения пришел в ужас и покорно подошел ко мне с подушками, подложив мне их под голову. Между тем монах поднес к моим губам стакан с какой-то лекарственной микстурой, которую я машинально проглотил.
– Отдохните здесь, сын мой, – обратился он ко мне успокаивающим тоном. – Это хорошие люди. Я же поспешу к мальчику, которому вы искали помощи, и меньше чем через час снова вернусь к вам.
Я взял его за руку, стараясь удержать.
– Постойте, – слабо пробормотал я. – Дайте мне услышать худшее. Это холера?
– Надеюсь, нет! – сочувственно ответил он. – А если бы и она? Вы молоды и достаточно сильны, чтобы бесстрашно ее побороть.
– Я не боюсь, – сказал я. – Но, святой отец, обещайте мне – ни слова о болезни моей жене! Поклянитесь! Даже если я буду без сознания или умру, поклянитесь, что меня не отнесут на виллу. Поклянитесь! Я не успокоюсь, пока не услышу вашего обещания.
– Торжественно вам в этом клянусь, сын мой, – размеренно ответил он. – Во имя всего святого я исполню ваше пожелание.
Я ощутил величайшее облегчение – безопасность тех, кого я любил, была обеспечена – и поблагодарил его безмолвным жестом: я слишком ослаб, чтобы что-то сказать. Он исчез, а сознание мое погрузилось в хаос странных и причудливых картин. Постараюсь воскресить в памяти эти видения. Я явственно вижу обстановку помещения, где лежу. Вот робкий хозяин заведения, он перетирает стаканы и бутылки, изредка бросая на меня испуганные взгляды. Группки людей заглядывают в дверь и, увидев меня, спешат прочь. Я наблюдаю все это, сознавая, где нахожусь, и в то же время взбираюсь по крутым склонам альпийского ущелья. Под ногами у меня холодный снег, и я слышу рев тысяч сходящих лавин. Алое облако плывет над вершиной белого ледника, оно распадается на части, и в его ярко светящемся центре на меня глядит улыбающееся лицо!
– Нина! Любовь моя, жена моя, душа моя! – громко кричу я.
Я тяну к ней руки, сжимаю ее в объятиях – и… Это проныра трактирщик липко обнимает меня! Я яростно отталкиваю его, задыхаясь.
– Дурак! – кричу я ему в ухо. – Пусти меня к ней, к ее губам, созданным для поцелуев, пусти!
Подходит еще один мужчина и хватает меня, вдвоем с хозяином они силой укладывают мою голову на подушки. Они наваливаются на меня, и жуткая слабость вкупе с невероятной усталостью лишают меня последних сил. Я перестаю сопротивляться. Пьетро и его помощник смотрят на меня.
– Он умер! – перешептываются они.
Я слышу их и улыбаюсь. Умер! Только не я! Палящие солнечные лучи струятся сквозь открытую дверь заведения, страдающие от жажды мухи жужжат настойчиво и громко, какие-то голоса поют «Фею Амальфи»[1 - Популярная неаполитанская песня. – Примеч. автора.], и я даже разбираю слова.
Я скажу тебе несмело,
Ты прекрасней всех, Розелла!
Ты в Амальфе всех красивей,
Моя фея, моя дива,
В моем сердце навсегда,
Так приди ко мне, царица,
Ведь с тобою не сравнится
В небе ни одна звезда.
Какая все-таки правдивая песня, моя Нина! «В небе ни одна звезда…» Как там говорил Гвидо? «Чиста, как безупречный алмаз, и недоступна, как самая далекая звезда!» Этот глупенький Пьетро по-прежнему перетирает бутылки. Я вижу его, его круглое кроткое лицо лоснится от жары и пыли, но я не могу понять, откуда он вообще здесь взялся, поскольку стою на берегу тропической реки, где буйно растут пальмы и сонные крокодилы дремлют на солнце. Их огромные челюсти раскрыты, а маленькие глазки зеленовато поблескивают. По безмолвной воде скользит легкая лодка, в ней я вижу гибкую фигуру стоящего индейца. Черты его лица странным образом напоминают Гвидо. Приближаясь ко мне, он достает длинное, тонкое и сверкающее стальное лезвие. Храбрец! Он хочет в одиночку напасть на безжалостных тварей, подстерегающих его на раскаленном берегу. Он спрыгивает на землю, и я наблюдаю за ним с каким-то странным восхищением. Он проходит мимо крокодилов, кажется, он не подозревает об их присутствии и быстрым, решительным шагом подходит ко мне. Это меня он ищет, и в мое сердце вонзает холодный стальной кинжал, затем вытаскивает его, и с лезвия капает кровь. Еще раз, другой, третий – а я все никак не умираю! Я корчусь, я стенаю от жутких мучений! Затем между мной и слепящим солнцем появляется что-то темное, что-то холодное и мрачное, от чего я в отчаянии пытаюсь отстраниться. Два темных глаза пристально смотрят мне в зрачки, и чей-то голос произносит:
– Спокойствие, сын мой, спокойствие. Доверьтесь воле Божьей.
Это мой друг монах. Я с радостью узнаю его. Он вернулся со своей богоугодной миссии. Хотя я едва могу говорить, я слышу, как справляюсь о мальчике. Слуга Божий истово крестится.