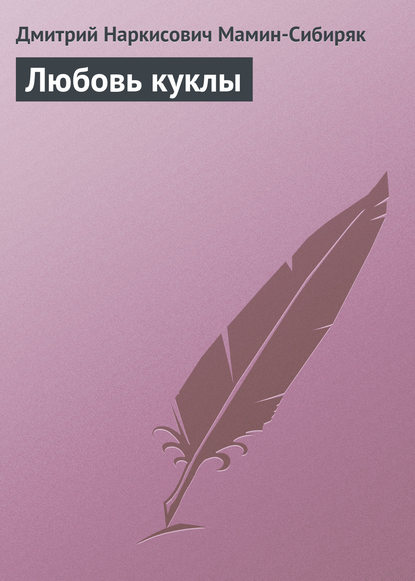 Полная версия
Полная версияЛюбовь куклы
– Вы хотите у нас пожить? – спросил о. игумен просто и спокойно, точно они только вчера расстались.
– Да, если вы позволите…
– С удовольствием… Можете иметь даже особую пищу, конечно, постную, как следует по уставу.
Трапеза продолжалась очень недолго, потому что состояла из картофельной похлебки и жареной рыбы. Игумен пил чай и предложил Половецкому.
– У нас не все пьют чай, – объяснил он. – Братия вся из простецов.
Монастырская простота очень понравилась Половецкому. Чувствовалось что-то такое трудовое, серьезное. Ничего лишнего. Это была настоящая крестьянская монашеская община.
После короткого отдыха половина братии отправилась на покос грести сено. Брат Павлин чувствовал себя виноватым зя пропущенные рабочие дни и только вздохнул.
– Ах, как все это нехорошо вышло! – сообщил он Половецкому. – Каялся я игумену, а он хоть бы слово… «Твое дело, тебе и знать». Вот и вес разговор… Презирает он меня за мое малодушие. А все Ираклий подбивал… Сам-то не пошел, а меня подвел. Кого угодно на грех наведет, строптивец… И надо мной же издевается.
– Вы сейчас идете в поле?
– Да.
– Можно мне с вами?
– Конечно… Только вам-то неинтересно будет смотреть на нашу мужицкую работу. Я-то уж себе придумал эпитимию… У нас луга заливные, а есть одно вредное местечко, называется мысок. Трава на нем жесткая, осока да белоус… Прошел ряд и точи косу. Работа тяжелая, ну, я этот мысок и выкошу. Братии-то и будет полегче.
– И для меня коса найдется?
– Конечно…
– Я когда-то умел косить, когда жил у себя в именьи.
– Вот, вот…
Брат Павлин провел Половецкого сначала к себе на скотный двор. Монашеское хозяйство было не велико: три лошади и десятка два кур. За скотным двором шел большой огород со всяким овощем. Брат Павлин, видимо, гордился им особенно.
– У нас в обители все свое, кроме молока и хлеба. Пробовали разбивать пашенку, да земля оказалась неродимая… За то всякий овощ превосходно идет, особенно капуста. Она любит потные места…
Заливнные луга облегли озеро зеленой каймой. Издали можно было видеть четырех монахов, собиравших готовое сено в копны. Они работали в одних рубашках, и об их монашеском звании можно было догадываться только по их черным скуфейкам. Мысок оставался нетронутым. Брат Павлин смотрел недоверчиво, когда Половецкий брался за косу, но сейчас же убедился, что он умеет работать.
– Потрудитесь на обитель, – заметил он, привычным жестом делая первый розмах.
Было жарко, и после часовой работы Половецкий с непривычки почувствовал сильную усталость. Правое плечо точно было вывихнуто. Брат Павлин работал ровно и легко, как работает хорошо сложенная машина. Половецкий едва тянулся за ним и был рад, когда подошел брат Ираклий.
– Изволите баловаться, барин?
– Да, немножко…
– Для аппетита?
– Да, для аппетита… А вот вы зачем не работаете?
– У меня совсем другая работа. Я по письменной части…
– Одно другому не мешает.
Когда Половецкий начал вытирать пот с лица, брат Ираклий с улыбкой проговорил:
– Что, видно, белыми-то руками трудненько добывать черный хлеб?
VIIВ течение нескольких дней Половецкий совершенно освоился с обительской жизнью, и она ему начинала нравиться. Между прочим, у него вышел интересный разговор с игуменом, когда он предъявил ему свой паспорт. О. Мисаил внимательно прочел паспортную книжку, до полицейских отметок включительно, и, возвращая ее, проговорил:
– Что-же собственно вам угодно, Михайло Петрович?
– Отдохнуть, т. е. собраться с силами, проверить себя, подвести итог, успокоиться… Ведь я жестоко измучился…
– Так, так… Но ведь по своему общественому положению вы могли устроиться по желанию, как хотели?
– Вот я и устроился… Мне нужно собраться с мыслями, а главное – на время уйти от той обстановки, в какой я жил до сих пор и от тех людей, с которыми я жил.
– Вижу, что у вас какое-то большое горе…
– Да, было… Я доходил до последней степени отчаяния и… и…
– Вижу: хотели лишить себя жизни? – договорил о. Мисаил засевшую у Половецкого в горле фразу. – Великий и страшный грех отчаяние, потому что оным отрицается безграничное милосердие божие. Страшно подумать, когда человек дерзает идти против закона божия… Но есть и спасение для кающегося, если покаяние с верой и любовью.
– А если этой-то веры и нет?
– Вера есть в каждом, но она затемнена… Без веры не человек, а зверь. По нашей слабости нам нужно великое горе, чтобы душа проснулась… Горе очищает душу, как огонь очищает злато.
Половецкому очень хотелось поговорить с о. Мисаилом вполне откровенно, раскрыть всю душу, но его что-то еще удерживало. Он точно боялся самого себя и откладывал решительный момент.
– О. Мисаил, ведь в человеке живут два человека, – заметил он. – Один – настоящий человек, которого мы знаем, а другой – призрак, за которым мы гоняемся целую жизнь и который всегда от нас уходит, как наша тень.
Игумен посмотрел на Половецкого, пожевал губами и ответил:
– Это уже умствование… Вы поговорите о сем с Ираклием. Он у нас склонен к прениям…
Но с Ираклием Половецкий совсем не желал говорить. «Строптивец» преследовал его по пятам. Даже по ночам Половецкий слышал его шаги в корридоре, и как он прислушивался у дверей его комнаты.
Обитель «Нечаянные Радости» представляла собой типичную картину медленного разрушения и напоминала собой улей, в котором жизнь иссякала. Мало было братии и мало богомольцев. Но это именно и нравилось Половецкому, потому что давало ту тишину, которая дает человеку возможность прислушиваться к самому себе. Кроме Ираклия, все остальные не обращали на него никакого внимания. У каждого было какое-нибудь свое дело. Половецкий являлся чужим человеком, и он это чувствовал на каждом шагу.
Эта отчужденность с особенной яркостью почувствовалась им, когда в странноприимнице поселился какой-то купец, здоровый и молодой на вид, что называется – кровь с молоком. Вся обитель точно встрепенулась, потому что, видимо, приехал свой человек, родной. Он говорил громко, ходил решительными шагами и называл всех иноков по именам.
– Это Теплоухов, Никанор Ефимыч… – объяснил брат Павлин. – У них кирпичные заводы около Бобыльска. К нам раза два в год наезжают, потому как у них тоска. Вот сами увидите, что они будут выделывать вечером.
– Он, вероятно, пьет запоем?
– Нет, этого нельзя сказать… Не слышно. А так, повреждение. О. игумена они очень уж уважают…
Действительно, вечером в странноприимнице произошла суматоха. Послышался истерический плач и какие-то причитанья. Так плачут только женщины. Но это бесновался Никанор Ефимыч, пока не пришел к нему о. Мисаил.
– Тошно мне, игумен… ох, тошнехонько! – с каким-то детским всхлипываньем повторял Теплоухов, не вытирая слез. – Руки на себя наложу…
– Успокойся, говорю тебе! – решительным тоном говорил игумен. – Опять задурил…
– Тошно, тошно…
По мере того, как игумен повышал голос, Никанор Ефимыч стихал и кончил каким-то детским шепотом:
– Страшно мне, игумен… Страшно!..
Утром на другой день Никанор Ефимыч опять говорил громко, выстоял всю службу, пообедал с братией в трапезной и, вообще, держал себя, как здоровый человек. Но вечером припадок отчаяния повторился и еще в более сильной форме. Странно, что брат Ираклий боялся Никанора Ефимыча и все время где-то скрывался. Половецкий тоже чувствовал себя нехорошо и был рад, когда Никанор Ефимыч через три дня уехал к себе, в Бобыльск. После его отъезда брат Ираклий снова показался и с удвоенной энергией начал опять преследовать Половецкого.
Прошла неделя. Раз Половецкий возвратился в свою комнату после всенощной и пришел в ужас. Его котомка была распакована, а кукла валялась на полу. Он даже побелел от бешенства, точно кто его ударил по лицу. Не было никакого сомнения, что все это устроил брат Ираклий Половецкий вне себя бросился разыскивать брата Павлина и сообщил ему о случившемся.
– Он, Ираклий… – согласился брат Павлин. – Он и чужия письма читает.
– Я… я не знаю, что сделаю с ним!.. Это… это… я не знаю, как это называется…
– Михайло Петрович, не сердитесь, – успокаивал его с обычной кротостью брат Павлин. – Это он так… в исступлении ума…
Брат Ираклий прятался от Половецкого дня два, а потом сам явился с повинной.
– Это я развязал вашу котомку, – заявил он, выправляя тонкую жилистую шею. – Да, я…
– Я знаю, что сделали это вы, но не понимаю, для чего вы это сделали.
– Я тоже не понимаю…
Брат Ираклий с виноватым видом стоял у дверей, а Половецкий шагал по комнате, заложив по военной привычке руки за спину. Он старался подавить в себе накипавшее бешенство, а брат Ираклий, видимо, не желал уходить.
– Самое лучшее, что вы сейчас можете сделать – это уйти, – в упор проговорил Половецкий, останавливаясь.
– Позвольте, но предмет такой странный… – ответил брат Ираклий. – Наша обитель стоит триста лет, а такого предмета в ней не случалось…
– Это уж мое дело, какой предмет и для чего он у меня…
Брат Ираклий продолжал оставаться.
– Надеюсь, вы меня оставите одного? – резко заявил Половецкий, поворачиваясь к нему спиной.
– Что же, я и уйду… – кротко согласился брат Ираклий. – Только вы напрасно сердитесь на меня… и презираете… А я могу понимать и даже весьма…
– Вы?! Понимать?!..
– И очень даже просто… Я могу и по философии… В писании даже сказано: не сотвори себе кумира и всякого подобия… Очень просто.
Половецкий остановился и ответил:
– Представьте себе, что вы угадали… В этой смешной кукле, т. е. смешной для вас – для меня вся жизнь… да. Она меня спасла… В ней еще сохраняется теплота тех детских рук, которые ее держали… Она слышала первый лепет просыпавшегося детского сознания… На нее пал первый луч детского чувства… Она думает, она говорит… В ней сосредоточился весь мир. Понимаете вы меня?!
– Не скажу, чтобы понимал совсем, а догадываюсь…
– Нет, не догадаетесь и не старайтесь догадываться…
Половецкого начинало возмущать, что брат Ираклий стоит и дергает шеей. Он, наконец, не выдержал и проговорил:
– Да садитесь вы, наконец…
Брат Ираклий покорно присел на краешек стула, поджал под себя ноги и заметил:
– А ведь вы верно говорите… т. е. мне не случалось об этом думать. У вас, вероятно, были дети?
– Да, были… т. е. был один ребенок…
– И он… умер…
– Да… т. е. хуже… Ах, ради Бога, не пытайте меня?!.. Какое вам дело до меня?
– Извините, я это так-с…
– Вы понимаете?!.. – продолжал Половецкий, снова начиная шагать по комнате. – У меня была дочь… маленькая девочка… и… о, Боже мой, Боже мой!.. На моих глазах, у меня на руках начинал погасать свет сознания… Почему? Как? На основании каких причин? Я ее по целым дням носил на руках, согревал ее собственным дыханием, а она уходила от меня все дальше, дальше, в тот неведомый никому мир, где сознание уже не освещает живую душу… Нет, сознание являлось отдельными вспышками, как блуждающий болотный огонек… И когда? Когда она брала на руки свою куклу… Между ними была какая-то таинственная связь… это необъяснимо, но я это чувствовал… Понимаете вы меня? Да, вот эта кукла вызывала последние отблески сознания, как горные вершины отражают на себе последние лучи догорающей зари. И свет погас… о, Боже мой! Боже мой!.. Зачем я это говорю вам?!..
Брат Ираклий сидел, сгорбившись, и слушал. Он умел слушать.
– Вы любили когда-нибудь женщину? – в упор неожиданно спросил его Половецкий.
Брат Ираклий испуганно выпрямился и посмотрел на Половецкого непонимающими глазами.
– Я? Нет, не случалось…
– Самое лучшее… Это обман чувств, иллюзия… Зачем я вас спрашиваю об этом?
– Нет, отчего-же… Я еще не инок, а только на послушании, как и брат Павлин. По-моему, вы все, т. е. мирские люди – не уважаете женщину…
Половецкий остановился и с удивлением посмотрел на брата Ираклия. Это был совсем не тот человек, которого он себе представлял и которого видел эти дни.
VIIIВ обители было тихо. Это была чутко-дремлющая, жуткая тишина…
Половецкий прожил в обители уже целый месяц и чем дольше жил, тем точно дальше уходил от неё. Это было странное, двоившееся чувство, в котором он не мог дать себе отчета. Ему казалось, что монахи сторонятся его, как чужого человека. А между тем, у них была своя жизнь, и они понимали друг друга с полуслова. Какая то стена отгораживала Половецкого от внутреннего мира этой монашеской крестьянской артели. Собственно даже не было и монахов в общепринятом смысле, а просто самые обыкновенные крестьяне в монашеском платье. У обители существовала своя живая связь с окружающим крестьянским миром. Каждый день у обительских врат появлялись крестьянские телеги. Большинство приходило пешком. У каждого было свое дело. Стояла страдная пора, и попусту никто не отрывался от работы. Половецкого особенно поразил один бородастый типичный мужик, приехавший верхом. У него было такое простое славное русское лицо.
– Мне бы игумна повидать… – обратился он к Половецкому.
– А что? – невольно спросил тот.
– А так… поговорить… Значит, сын, большак, помер… Двое ребят осталось… жена…
Игумен принимал всех и во всякое время. Мужик прошел в игуменскую келью, и Половецкий видел, как он возвращался через полчаса, шагая по монастырскому двору тяжелой мужицкой походкой. Он шел, держа шапку в руках, и встряхивал головой, в которой, видимо, плохо укладывались слова пастырского утешения. Он неторопливо отвязал свою лошадь, тяжело подпрыгнул на нее и с трудом сел. Половецкий долго смотрел, как он ехал, болтая руками и ногами.
Между прочим, особенностью обители «Нечаянные Радости» было то, что в ней редко можно было встретить профессиональных странников и богомолок, за исключением праздников.
– Наша обительская пища скудная, вот и нечего здесь делать, – коротко объяснил брат Павлин. – Да и богатых богомольцев совсем мало бывает…
Месячный срок пребывания Половецкого прошел очень быстро.
– Вам уж пора домой, милостивый государь, – с обычной дерзостью заявил брат Ираклий. – У нас устав…
Половецкий отправился переговорить с о. игуменом и предложил уплатить деньги.
– Мне хотелось бы пожить у вас еще с месяц, если конечно, это вас не стеснит…
– По уставу не полагается, Михайло Петрович. А денег мы не принимаем, тоже по уставу… Для этого при странноприимнице есть кружка.
– Но ведь я могу заболеть, о. Мисаил?
– Конечно, можете…
– Я и сейчас серьезно болен…
– Дело ваше. Я не гоню, а только устав… Хотя апостол Павел и сказал, что по нужде и закону пременение бывает. Мое дело сказать вам…
Половецкий ушел от игумена ни с чем. Брат Ираклий уже поджидал его с торжествующим злорадством.
– Возжелали прельстить инока златом? Совершенно напрасно-с… У нас устав. Есть, конечно, один способ… да… Отправляйтесь в Бобыльск денька на три, а потом и начнете снова свой месяц в обители.
– Благодарю вас за хороший совет…
Брат Павлин взглянул на дело гораздо проще и посоветовал оставаться в обители без всяких объяснений.
– А там видно будет, что и как, – прибавил он с кроткой улыбкой. – Ведь вы даже работали на обитель, так что к другим нельзя приравнять.
Половецкому сделалось грустно. Куда он мог идти? Такого места не было… Он уже начинал свыкаться с обительской тишиной, с длинными монастырскими службами, с монастырской работой, которую вел под руководством брата Павлина. Всего больше ему нравились рыбные ловли на озере, хотя летом рыба и ловилась плохо.
В дальнем конце озера было несколько болотистых островков, обложенных озерными камышами. Сюда Половецкий и уезжал с братом Павлином иногда дня на три. Они ночевали под открытым небом около огонька, а в ненастную погоду укрывались в шалашике из еловых ветвей, прикрытых сверху берестой и еловой корой. Наступала уже осень, дни делались короче, и Половецкий с наслаждением проводил около огня целые часы в созерцательном настроении. Ах, как все прошлое было далеко-далеко… Кругом ни души. Ночная тишина нарушалась только ропотом озерной волны да гомоном разной птицы, гнездившейся по камышам. Брат Павлин в эти моменты делался как-то особенно разговорчив, вернее сказать – он любил думать вслух. Эта детски-чистая душа воспринимала впечатления природы с каким-то религиозным экстазом и видела везде Бога, везде чудо и везде несказанное словом поучение.
– А человеку все мало… – думал вслух брат Павлин. – А человек все неистовствует в своей неистовой слепоте… да. Приезжал к нам в обитель года два назад один старичок и навел сомнение. Очень даже вредно говорил. «Вы, говорит, спасаете душу, значит хотите непременно быть лучше других, и ваше монашеское смирение паче гордыни». Потом много говорил вредного на счет нашей монагаеской одежи и пищи… Зачем вот мы рыбу едим. «Человеку, говорит, этого нигде не указано». С ним сцепился Ираклий и начал говорить от писания, а старик ему наоборот: «Все это, говорит, надо понимать иносказательно». И даже весьма ядовитым оказал себя, т. е. старичок. По писанию совсем загонял нашего Ираклия… А как вы полагаете, Михайло Петрович, на счет этой самой рыбки? Ведь она тоже чувствует, хотя сказать этого и не умеет…
– Право, не знаю, брат Павлин. По-моему, дело совсем не в том, во что человек оденется и что он ест. Важно то, как он вообще живет, а еда и платье пустяки.
– Вот, вот… У нас есть и деревенская поговорка такая: рыбку-то ешь, да рыбака не ешь.
– Если кто может обойтись даже без рыбки – отлично. Я уверен, что в будущем не будут есть ни мяса, ни рыбы, потому что это несправедливо, но дело все-таки не в этом. По-моему, это мести лесенку с нижней ступеньки…
– А я опять так думаю, Михайло Петрович: ну, хорошо, никто не будет есть говядину, а куда же тогда скот денется? Зачем же я буду даром кормить бычка или свинушку?.. Куда, например, денутся лишние петушки, которые ежели сверх числа? Ну, на быке еще можно и ездить, и землю пахать, а на петухе или на свинье далеко не уедешь.
– Тогда превратятся в дикое состояние, как сейчас есть дикие олени или дикия утки и разная дичь.
– А что-же, ведь в самом деле все возможно, Михайло Петрович!.. И даже очень просто…
Эта мирная рыбная ловитва была нарушена неожиданным появлением брата Ираклия. Возвращаясь на свой остров вечером, когда все сети были выметаны, Половецкий заметил горевший у их балагана огонь. Не нужно было говорить, какой гость пожаловал. Брат Павлин только угнетенно вздохнул, предчувствуя неприятность. Действительно, это был брат Ираклий, сидевший около костра.
– Вы это зачем пожаловали к нам? – довольно сурово спросил Половецкий.
– Я-то? А пл серьезному делу… Казус.
– Донос написали?
– Именно-с…
– Очень интересно…
– Не знаю, как понравится, а только старался. Кстати я захватил и документик с собой… Завтра пойдет к владыке. Нарочно приехал, чтобы показать вам.
– Пожалуйста, избавьте меня, – заметил Половецкий, снимая промокший кожаный рыбацкий фартук. – Я не страдаю любопытством…
– Однако-же… Зачем я в таком случае ехал сюда и даже чуть не утонул?
Брат Ираклий как-то весь сжался, ехидно улыбался и грел свои красные руки над огнем. Брат Павлин поставил над костром котелок с водой для ухи. Где-то со свистом пролетело стадо диких уток, отправлявшихся на ночную кормежку.
– Так я вам прочитаю… – продолжал брат Ираклий, вынимая из-за пазухи свернутый в четверо лист бумаги.
Он присел на корточки к огню и принялся за чтение, время от времени поглядывая на Половецкого. Донос представлял собой самое нелепое произведение, какое только можно было себе представить, начиная с того, что Половецкий обвинялся в идололатрии, а его кукла называлась идолом. По пути обвинялся игумен, мирволивший занесенному в обитель идолопоклонству и не в пример другим позволившему проживать идололатру в обители свыше месяца, положенного уставом. Заканчивался донос тем, что в новое идолопоклонство вовлечен скудный умом брат Павлин.
– Что-же, не дурно, – похвалил спокойно Половецкий, когда чтение доноса кончилось. – Скажу даже больше: мне нравится стиль… Кстати, могу только пожалеть почтеннейшего владыку, который будет читать ваше произведение.
IXНа озере поднимался шум разгулявшейся волны. Это делал первые пробы осенний ветер. Глухо шелестели прибережные камыши, точно они роптали на близившугося осеннюю невзгоду. Прибережный ивняк гнулся и трепетал каждым своим листочком. Пламя от костра то поднималось, то падало, рассыпая снопы искр. Дым густой пеленой расстилался к невидимому берегу. Брат Ираклий по-прежнему сидел около огня и грел руки, морщась от дыма. Он показался Половецкому таким худеньким и жалким, как зажаренный цыпленок.
– Вам не совестно, брат Ираклий? – неожиданно спросил его Половецкий.
– Мне? Нет, я только исполняю волю пославшего мя и обличаю… Вам все это смешно, милостивый государь, потому-что… потому-что… Да, в вас нет настоящей веры.
– Позвольте…
– Нет, уж вы мне позвольте… Верующих в Бога много, и таковые встречаются даже между корреспондентами. А вот господа интеллигентные люди не желают верить в беса… Не правится им. Да… А это невозможно. Ежели есть Бог, должен быть и бес… Очень просто.
– Вы не правы. Есть целый ряд сект…
– Знаю-с и даже очень. Например, люциферианизм, сатанизм, культы Изиды, Пана, Диониса – и еще много других. Но это все другое… Тут важен только символ, а не сущность. Диавол, демон, сатана, люцифер, Мефистофель – это только отвлеченные понятия… да. А бес живой, он постоянно около нас, и мы постоянно в его бесовской власти. Вот вам даже смешно меня слушать, а, между тем, в Кормчей что сказано: к простому человеку приставлен один бес, к белому попу – семь бесов, а к мниху – четырнадцать. А вот вы верите в куклу…
– Да, верю. Я уже говорил вам… Для меня она нечто живое, даже несколько больше, потому-что она живет и не умирает.
– Вот-вот, как бес… В ней сидит бес, принявший образ и подобие.
Вопрос о кукле не выходил из головы брата Ираклия все это время и мучил его своей таинственностью. Тут было что-то непонятное и таинственное, привлекавшее к себе именно этими свойствами. Брат Ираклий, конечно, докладывал о кукле игумену, но тот ответил всего одной фразой:
– Не наше дело.
Уезжая на рыбную ловлю, Половецкий куда-то прятал свою котомку, и брат Ираклий напрасно ее искал по всем углам странноприимницы. Он жалел, что тогда не истребил ее, как следовало сделать по настоящему.
– Веры не хватило… – укорял самого себя брат Ираклий.
Между прочим, и на острова он отправился с тайной целью отыскать на рыбачьей стоянке проклятую куклу. Но её и здесь не оказалось.
Брат Павлин умел варить великолепную уху, а сегодня она была как-то особенно хороша. Ели все прямо из котелка деревянными ложками, закусывая монастырским ржаным хлебом, тоже замечательным произведением в своем роде. Брат Ираклий и ел, не как другие: торопился, обжигался, жмурил глаза и крошил хлеб.
– Зачем сорить напрасно дар Божий? – сурово заметил ему брат Павлин.
Это было еще в первый раз, что брат Павлин сделался строгим, а брат Ираклий не нашелся, что ему возразить.
– Чайку бы хорошо теперь выпить… – как-то по-детски проговорил брат Ираклий, когда уха была кончена.
– Ничего, хорошо и так, – прежним тоном ответил брат Павлин. – Чревоугодие.
Вечер был теплый. Ложиться спать рано никому не хотелось. Брат Павлин нарубил дров для костра на целую ночь и даже приготовил из травы постель для брата Ираклия.
– Настоящая перина… – похвалил он.
– Отлично, – согласился брат Ираклий, вытягиваясь на своей перине.
Половецкий сидел на обрубке дерева и долго смотрел на огонь, в котором для него всегда было что-то мистическое, как символ жизни. Ведь и человек так же сгорает, как горели сейчас дрова. И жизнь, и обновление, и перемена только формы существования.
– Вы видали, господа, фонограф? – спросил Половецкий после долгой паузы.
Брат Павлин не имел никакого понятия о граммофоне, а брат Ираклий видал его у покойного Присыпкина. Половецкому пришлось объяснить его устройство.
– Господи, до чего только люди дойдут! – удивлялся брат Павлин. – Даже страшно подумать…
– Страшного, положим, ничего нет, а интересно, – продолжал Половецкий. – Благодаря телефону сделано удивительное открытие, на которое почему-то до сих пор не обращено никакого внимания. Именно, голоса своих знакомых узнаешь, а свой голос не можешь узнать… Я сам проделывал этот опыт.
– И что-же из этого? – спрашивал брат Ираклий. – По-моему, решительно ничего особенного…
– Нет, есть особенное. Этот опыт доказывает, с поразительной очевидностью, что человек знает всего меньше именно самого себя. Скажу больше – он имеет целую жизнь дело с собой, как с таинственным незнакомцем.
– Познай самого себя, как сказал греческий мудрец.
– Вот именно этого-то познания человеку и не достает. В этом корень всех тех ошибок, из каких состоит вся наша жизнь. Найдите мне человека, который в конце своей жизни сказал бы, что он доволен вот этой прожитой жизнью и что если бы имел возможность прожить вторую жизнь, то не прожил бы ее иначе. Счастливейший из завоевателей Гарун-аль-Рашид перед смертью сказал, что в течение своей долгой жизни был счастлив только четырнадцать дней, а величайший из поэтов Гете признавался, что был счастлив всего четверть часа.

