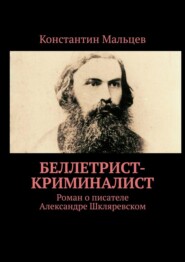скачать книгу бесплатно
Мы встали в отдалении и долго глядели на него. Он – на витрину, мы – на него. Вся решимость семинариста, так жаждавшего познакомить меня с Никитиным, разом куда-то улетучилась.
– Ну, что же ты? – прошептал я ему. – Давай подойдем?
Тот покачал головой.
– Иди, пожалуй, сам. Я тут подожду.
Делать нечего. Изображая всем своим видом развязность, я приблизился к поэту и завел разговор.
– Вы господин Никитин?
Он посмотрел на меня тяжелым, неприязненным взглядом. Меня это, однако, не смутило: со слов семинариста я уже знал, что Никитин угрюм и необщителен.
– Так это вы? – повторил я.
– Да, – коротко ответил он.
– Так это вы написали стихотворение «Русь»: «Под большим шатром голубых небес – вижу – даль степей зеленеется. И на гранях их, выше темных туч, цепи гор стоят великанами».
Я прочитал все это довольно длинное стихотворение наизусть. Никитин выслушал меня не перебивая; лицо его оставалось совершенно невозмутимым. Когда я закончил, он кивнул:
– Да, это мое.
– А вот это: «Поутру вчера дождь в стекла окон стучал; над землею туман облаками вставал…»
И снова продекламировал до конца.
– Да, и это мое.
Я воодушевился и прочитал ему еще несколько его же стихотворений – я поневоле запомнил их, ибо мне ими успел надоесть мой друг-семинарист.
Никитин все слушал и слушал, и никак невозможно было понять, что у него внутри: досада ли, что незнакомый юнец пристает к нему на улице, или же ликование, что его поэзия нашла своего ценителя в лице этого самого юнца.
Когда запас моей памяти иссяк, я умолк и не знал, что сказать. Никитин тоже долго молчал и о чем-то размышлял. А потом сказал:
– Все-таки скверные у меня стихи.
Приподнял картуз в знак прощания и двинулся прочь.
Я стоял опешив. Странный он все-таки, этот Никитин…
– О чем вы так долго разговаривали? – Это мой приятель подошел и спросил.
– О том, о сем, – ответил я.
– А если подробнее?
– Он меня расспрашивал об экзаменах на учителя.
Правду я почему-то не сказал.
Что я все-таки вынес из недолгого и, прямо говоря, малосодержательного общения с Никитиным, так это следующее: если хочешь быть литератором, будь готов к неудовлетворенности своими произведениями. Вон Никитин о своих замечательных стихах отозвался как о скверных, когда послушал их из чужих уст. Но вместе с тем, эта самая неудовлетворенность не мешала ему сочинять дальше, до самой кончины.
А умер он в нестаром еще возрасте, через семь лет от нашей встречи. На двадцатую годовщину его смерти я написал небольшой мемуар о знакомстве с ним. Должен признаться, я там приврал и переиначил. Я добавил, что мы-де с Никитиным пили чай в лучшем трактире Воронежа, куда он пригласил меня после разговора на улице. Еще я приплел, что он красиво говорил о большом и трудном призвании быть учителем и хвалил меня за выбор именно этого пути и что на прощание подарил мне черновик одного своего стихотворения. В общем, я малость приукрасил. А иначе, без всех этих присочиненных подробностей, не запродать очерк ни в один журнал – так решил я, уже прекрасно зная, чего хотят издатели и чего жаждет публика.
До этого, однако же, было еще далеко. А пока меня ждали годы учительства. В придуманной мной для того же очерка-воспоминания беседе за чаем я якобы сказал на этот счет Никитину: «Трудись, трудись, а впереди никакой карьеры… Всякий писец надеется быть столоначальником, секретарем, советником, а учитель…»
На деле я этого не говорил, но вполне мог сказать. Перед глазами был пример моего отца, и я отдавал себе отчет, что и меня ждет такая же скромная и незавидная участь. Каждый день, каждый месяц, каждый год одно и то же без малейшей надежды на улучшение положения, будь то повышение жалованья или продвижение по службе, – вот какое существование предстояло мне влачить.
Поэтому в Павловск, уездный город Воронежской губернии, где приискалось мне место учителя русского языка, уехал я, распрощавшись с родителями, с тяжелым сердцем. А впрочем, юность, с ее жизнелюбием, делала свое дело, тучи в душе моей иногда рассеивались, и тогда я начинал верить в свою большую будущность, в предназначение учительское, в то, что я принесу пользу Отечеству на ниве просвещения народного. Некрасов, с которым судьба меня тоже потом свела, еще не написал тогда свое стихотворение «Сеятелям», где была знаменитая строчка: «Сейте разумное, доброе, вечное», но мысли мои шли, пожалуй, примерно в этом русле. Буду, дескать, сеять знания, не глядя на малый достаток!
В целом же все вышло у меня, как говорится, серединка на половинку. Существование свое в должности учителя я не назвал бы жалким, были в нем и положительные стороны, так что слово «влачить» все же к нему приемлемо мало. Но и помыслы о великом предназначении вдребезги разбились, столкнувшись с действительностью.
Павловск оказался довольно сносным городом. Небольшой, всего четыре тысячи жителей, но с чистыми ровными улицами, милым общественным садом, большой речной пристанью и несколькими учебными заведениями. В одно из них – уездное училище – я и определился.
Сносный-то сносный, но мне было в Павловске невообразимо скучно. Сеять знания в душах таких обормотов, какими оказались мои ученики, было, как по мне, занятием неблагодарным. От сих до сих, по учебнику и хрестоматии, через зубрежку и долбежку – вот все, что я мог им предложить по причине их лености и нелюбознательности.
Поначалу, правда, я пытался зажечь их сердца, преподавал с жаром и вдохновением, но они не воспринимали меня всерьез, в чем, наверно, был повинен мой возраст: я был ненамного взрослее учеников, и самое большее кого они во мне могли видеть, это старшего товарища. А может, жара и вдохновения во мне недостало – этого я тоже отрицать не стану. Так или иначе, а вскорости я понял, что наткнулся на стену и что пробить ее не в силе.
Сослуживцы-учителя с усмешкой наблюдали за моим первоначальным рвением. «Молодо – зелено», – иронически говорили они. Когда же мой энтузиазм сошел на нет, они отнеслись к этому как к само собой разумеющемуся. Как к неизбежному. Все они на первых порах были такими же, как я, и все по прошествии недолгого времени погрузились в трясину под названием обыденность.
Чуть побарахтавшись, заскучал и я. Скучая вел я уроки, скучая коротал свободные часы после них. Гулял в общественном саду, прохаживался по пристани – Павловск стоит на реке Дон – и ждал, когда уже закончится очередной день и начнется новый. Но новый день тоже ничего не приносил за исключением все той же скуки.
Единственное отдохновение от нее я находил, как и прежде, в чтении книг. Их я выписывал почтой по мере материальной возможности. Увы, скудное жалованье сильно меня в этом ограничивало, поэтому я одалживал книги, как у друзей-гимназистов когда-то, у сослуживцев, только уже, конечно, не за булочки, а просто так. Но их личные библиотеки были мизерны, и скоро я исчерпал этот источник. Тогда я принялся многажды перечитывать все то, что имелось на моих скромных полках.
Особенно часто попадали мне в руки «Бедные люди» Достоевского. Я чуть ли не наизусть запомнил эту книжицу, а мое первоначальное, не очень-то высокое мнение о ней стало намного лучше. Несмотря на свой малый размер, она была мне великим утешением. Во-первых, страдания главного героя, несуразного Макара Девушкина, говорили, что кому-то бывает много хуже, чем мне. А во-вторых, на этом же, то есть на том, что кому-то бывает много хуже, настаивала судьба самого автора книги. Я вспоминал, что Достоевский не в тепло натопленном классе преподает урок, а в каторге гремит кандалами. И это не книжный вымысел, как беды того же Девушкина, а действительность! «Не ной! – увещевал я сам себя. – Другим вон как плохо, ты в сравнении с ними еще в терпимом положении!»
А еще одним утешителем для меня стал… зеленый змий. Именно в пору учительства я сперва подружился с ним, а затем попал под его необоримую власть. Увы, и посейчас он распоряжается мной как рабом, и я не вижу, что может быть иначе!
Начиналось же все вполне прилично и даже весело. Сослуживцы мои выпивали все без исключения, и холостые, и семейные. Дружеские и не очень дружеские попойки были учительской традицией Павловска. Такая практика отдохновения от трудов праведных считалась привычной и даже необходимой частью бытия. И естественно, мои старшие товарищи вовлекли меня в сие занятие, а я с удовольствием в него вовлекся. Хмель помогал развеять уныние, под его воздействием груз обыденности не так сильно давил на душу. В общем, пристрастился я. Отсюда и пошел мой, если называть вещи своими именами, алкоголизм. Но это только потом, со временем, он развился до губительных размеров – губительных и для материального благополучия, и для здоровья моего, – а пока возлияния Бахусу стали для меня отдушиной.
Более того. Благодаря зелену вину наладились мои отношения с противоположным полом. Прежде я с женщинами был очень робок: общаясь с барышнями, бледнел как бумага и слова произнести не мог без кряхтенья и заиканья. Алкоголь же развязывал мне язык, избавлял от чрезмерной скромности, свойственной всякому молодому человеку, только вступающему в жизнь, и вообще, употребив немного внутрь горячительного напитка, я чувствовал себя ловеласом, донжуаном и казановой одновременно. Откуда-то появлялись во мне обаяние, остроумие, сообщительность, развязность, и я замечал, что нравлюсь женщинам. Само собой разумеется, я применял это к своей выгоде. Не могу удержаться от неумного каламбура: я пользовался успехом у женщин и пользовался этим.
А одна из павловских дам и вовсе влюбилась в меня. Несмотря на то, что была она на несколько лет старше меня, я отметил ее привлекательность, а при ближайшем знакомстве и богатства ее души. Про другое богатство я речи не веду, поскольку она, как и я, была из семьи необеспеченной. Соответственно, и приданого за ней никакого не имелось. Но меня это не волновало нисколько. Я полюбил ее и женился на ней.
К удивлению моему и неожиданности, жизнь семейная оказалась тем же болотом. После первых счастливых дней, справедливо именующихся медовым месяцем за их сладость, опять меня поглотила скука и рутина. А моей душе, моему разуму требовалось не скучное и не рутинное занятие, а какая-то, с позволения сказать, высшая цель. Воображаю, как напыщенно выглядит это словосочетание: «высшая цель», но надо сделать скидку на то, что я был тогда молод и мыслил именно такими категориями. Да и время, если вспомнить, какое было! Реформы, манифест об отмене крепостного права! Такие преобразования в стране, а ты сиди в своем болоте.
Не скажу, что смысл, но какую-то ценность, какую-то краску обрела моя жизнь для меня на восьмом или девятом году пребывания – или, если продолжать говорить своими словами, прозябания – в Павловске. Нет, из этого болота я не выбрался, зато начал «квакать». Я имею в виду: начал выступать в губернской печати.
Помню, в Павловске вдобавок к уже имеющимся учебным заведениям открылось еще одно – женская школа. Необходимо было составить статью об этом событии, с тем чтобы отправить ее в «Воронежские губернские ведомости» для публикации. Никто в городе не хотел этим заниматься, и поэтому поручили мне.
– Вы, Шкляревский, знаток словесности, кому как не вам! – промолвил смотритель училища.
Я долго отнекивался, потому как считал это бесполезной тратой времени, выходящей к тому же за рамки моих должностных обязанностей. Но потом подумал: а что есть не бесполезная трата времени? Пьянство? Скандалы с женой, которые все учащались и ужесточались?
Ладно, напишу, сказал я всем – и самому себе в первую очередь. Надо признать, что, непомерно много читая, сочинять что-либо свое я прежде не брался, не то что повести и романы, но даже и статьи для газет. Столько много на свете писателей и журналистов, думал я, столько они пишут и издают, куда еще и мне! Со свиным-то рылом да в калашный ряд!
Но тут во мне взыграло ретивое. Неужто я неспособен даже на этакую мелочь? Неужто я только и могу, что гнить в болоте, не шевелясь и не квакая? В общем, сел да написал, и ничего сложного в том, чтобы приставлять сначала в уме, а затем на бумаге одно слово к другому, не оказалось.
А когда в «Ведомостях» вышла моя «Корреспонденция из Павловска», я и вовсе сделался счастлив. Пусть была она сильно урезана и без подписи, однако же это меня никоим образом не смутило. Смешно сказать, но благодаря напечатанию этой короткой заметки я почувствовал собственную значимость. Как будто свежего воздуха вдохнул полной грудью.
Само собой, после этого я стал регулярным автором «Воронежских ведомостей». Мои заметки о павловской общественной жизни часто появлялись на их страницах. Хотя не так много событий происходило в городе, я искал и находил о чем написать. Образование, торговля, судоходство, даже бахчеводство (Павловск издавна славится своими арбузами) – ничто не уходило от моего внимания. Словом, я вошел во вкус!
То постоянство, с каким поставлял я статьи в «Воронежские губернские ведомости», обратило на себя внимание редактора их неофициальной части Михаила Де-Пуле. Уж не знаю, как он определил во мне талант по моим сухим коротким корреспонденциям, но однажды от него пришло письмо, в котором он весьма лестно отзывался о моих литературных способностях и говорил, что я заслуживаю большего, нежели жизнь в захолустном Павловске. А в конце письма и вовсе предложил: «А переезжайте-ка в Воронеж! В Воронеже больше возможностей для применения ваших сил и усердия».
Письмо Де-Пуле меня порадовало и взбудоражило. Но все же я отвечал весьма сдержанно. Спасибо, конечно, Михаил Федорович, писал я, но срываться с места я остерегаюсь, поскольку беру в соображение, что я человек семейный. Возможности возможностями, но ведь нужно учитывать и неопределенность, которая за ними стоит. В Павловске я при учительской должности и, соответственно, при заработке, пусть и плохоньком, а что ждет меня в Воронеже? Вот если бы и там подыскать себе что-либо по части учительства…
В общем, я намекал, что жду от Де-Пуле содействия в устройстве моей судьбы в Воронеже, а уж тогда, дескать, разумеется, приеду. Я же знал, что он сам, помимо редакторства, был преподавателем и помощником инспектора в Воронежском кадетском корпусе, а значит, мог порадеть за меня. А что! Сам же пригласил, вот пускай и позаботится!
Де-Пуле, надо отдать ему должное, понял мой намек. При его участии мне нашлось место учителя в одной из воронежских гимназий. С превеликой радостью я покинул давно уже мне опостылевший Павловск.
(Кстати, отмечу мимоходом как любопытное: Де-Пуле был близким другом поэта Никитина, о встрече с которым я упоминал и который ко времени моего переезда в Воронеж уже давно скончался. Ничего факт знакомства Де-Пуле с Никитиным, а потом со мной не означает, кроме того, что это еще один довод в пользу утверждения о том, что мир тесен. Стоит ли удивляться, что через много лет я и с Достоевским свиделся! Удивительно лишь то, как пренебрежительно он ко мне отнесся.)
Несколько раньше Достоевский тоже переменил свою участь в лучшую сторону. Он отбыл свой срок каторги, а потом ссылки и вернулся в Петербург. Да и не только в Петербург, но и к литературной работе. Во-первых, он собственный журнал начал издавать на пару с братом. А во-вторых, были опубликованы его «Записки из мертвого дома», живописующие ужасы сибирской острожной жизни, которых он и насмотрелся, и натерпелся.
Я с интересом прочел сие произведение и порадовался за его автора, мысленно поздравил его с тем, что он не сгинул в каторге, как предрекал мне книгопродавец, сбывший мне том «Бедных людей». Кстати, «Мертвый дом» показался мне куда сильнее по таланту написания, нежели «Бедные люди». Мастерство Достоевского выросло многократно, и благодаря этому его дарование было теперь неоспоримо. «Это большой писатель!» – поняла читающая публика, и я в том числе. Увы, я не знал тогда, что он еще и большой лицемер. За человеколюбца себя выдает, о слезинке замученного младенца ахает, а сам к людям как к собакам!..
ВОРОНЕЖ
В Воронеже, крупном губернском городе, я с головой окунулся в кипевшую там жизнь. Театр, библиотеки, газетные и даже журнальные редакции, умные и образованные люди, наконец, – столько там было всего, чего не хватало мне в уездном болоте!
Я оживился и даже на какое-то время забросил выпивку; потом, правда, пагубная привычка вновь взяла надо мной верх, но на первых порах воронежского моего бытия меня отличала трезвость.
А помимо трезвости – энергия. На все меня хватало – и на учительскую работу, и на написание статей на темы воспитания и образования: они публиковались в различных местных газетах. Даже в петербургской прессе выходили мои корреспонденции – например, обзоры воронежской театральной жизни: одно время я любил эту сферу искусства, не видя с непривычки за блеском и мишурой ее фальши.
А еще занялся я сочинительством художественных произведений; пока это были короткие рассказы и очерки из провинциального быта, мещанского, гимназического и прочего. Должен признаться, что от статей моих они отличались лишь объемом и более развернутым описанием картин и фактов действительности и почти не содержали вымысла, фантазии: соответствие правде жизни я тогда считал важнейшим требованием к себе в части литературы.
Предлагать свои творения читательскому суду я не решался, только жене осмелился показать.
Иногда она оставалась в восхищении. Это было немудрено: в минуты благостного состояния она готова была похвалить и самый несвязный бред, лишь бы он исходил от меня.
– Ах, Сашенька, до чего же складно у тебя получается! Я всегда была в тебе уверена, всегда!
Но чаще она бывала не в духе и тогда, прочитав мои рукописи, кривилась в усмешке и разражалась сварливой тирадой:
– Что за ересь! Зачем я только за тебя, писаку бесталанного, замуж пошла! Предлагал же мне руку купеческий сын, Одинцов! Была бы сейчас купчихой, в золоте бы ходила да брильянтами б сверкала! А то с хлеба на воду перебиваемся, а он пишет, видите ли!
Да, несмотря на некоторое улучшение, материальные условия наши после переезда все же оставались стесненными, и именно недостаточность средств становилась главным поводом для недовольства жены и провоцируемых ею семейных скандалов. Любовь ко мне боролась в ней с этим недовольством, и когда побеждала первая, она расточала комплименты моим литературным опытам, а когда второе – разносила их в пух и прах. Так что объективной оценки своих рассказов я от жены добиться не мог. А от всех остальных, повторюсь, свои беллетристические начинания я держал в тайне.
Теперь, с высоты прожитых лет, я понимаю, что, не показывая никому свои первые произведения, я поступал совершенно правильно. Даваемые мной бытовые картины грешили описательностью и отсутствием красок, да и темы были мелки. Ну, кому было бы интересно прочитать об одном дне из жизни приказчика или как сводит концы с концами уездный чиновник-вдовец, с оравой детей. Разве что тем самым приказчику да чиновнику, чтобы они могли сказать: «Да-с, все так и есть, все правда, что здесь написано». Нет, право, очень хорошо, что мои первые рассказы так и не стали никому известны. Не так я писал и не то.
Открыл мне глаза на это все тот же Достоевский, со своим очередным романом. Должен признать, что сей автор сильно на меня повлиял; я же не мог предположить, что в жизни он окажется гнусным, подлым субъектом.
Так вот о его романе. Думаю, он, роман этот, известен всем и каждому, даже далекому от литературы человеку. Уж хотя бы название все слышали: «Преступление и наказание»! Фурор в обществе сие произведение произвело небывалый. Все только и говорили о запутавшемся Раскольникове, порешившем старушку-процентщицу, и хитроумном следователе Порфирии Петровиче, выведшем его на чистую воду.
Естественно, прочел роман и я. Как и на всю читающую публику, он произвел на меня ошеломляющее впечатление. И даже большее, нежели на всех остальных! Достоевский, повторю, просто глаза мне открыл! «Вот оно, – подумал я, – вот то, о чем мне нужно писать! Правду жизни можно найти не только в обыденном, но и в этаком – выходящем за рамки нормального! А ведь тут еще и занимательность, так необходимая в литературе!»
Тема наказания меня мало затронула, пусть наказывает суд, а вот преступление – это я счел подходящим предметом изображения для своих будущих рассказов. И даже не столько преступление, а психологию преступника. Как же это я запамятовал, что в детстве она владела моим воображением! И почему я раньше писал не об этом, а об обыденных и скучных вещах?
Разумеется, вспомнилась встреча с дедом Осипом, разбойником, замаливающим грехи, чтобы, в случае смерти при совершении очередного злодейства, предстать чистым перед Богом. У него была одна психология, у Раскольникова – другая, но и тот и другой в конечном счете пришли к душегубству, пусть и разными путями. Значит, мир преступности неоднороден и разнообразен, то есть схожести с романом Достоевского легко будет избежать. Да я и не способен на такие крупные и развернутые полотна, я вполне отдавал себе в этом отчет, мое – это короткие повести и рассказы. К их написанию я и приступил. А свои первые неудачные опыты я сжег самым натуральным образом в печке и предпочел забыть, как будто начал с чистого листа. «Теперь не бытописание, а уголовная хроника!» – вот как я решил для себя.
В чем состояла трудность, так это в сюжетах. Где их брать, я терялся. Достоевский, насколько я мог судить, пользовался, кроме собственной фантазии, богатым жизненным материалом – недаром же он целые годы провел в каторге, там он мог изучить всевозможные типы темных личностей, находившихся рядом с ним, наслушаться их рассказов о том, что они вытворяли. А как быть мне?
Хотя я и служил одно время в полиции, но, повторюсь, писарская должность не предполагала непосредственного участия в раскрытии преступлений, а значит, и знакомства с теми, кто их совершал. О расследуемых делах я мог знать только из бумаг, которые проходили через мои руки. Да и что это были за дела, Бог ты мой! Мелочь одна, пустяки! Украденная шутки ради полоскательница (я уже упоминал, что пострадал через эту полоскательницу) или кто-то кому-то рожу начистил, перепутав с чертом с пьяных глаз (было и такое занятное дознание). Ну, решительно ничего достойного для повести или рассказа!
Весь в раздумьях и сомненьях, я обратился за советом к Де-Пуле. Я по-прежнему видел в нем своего покровителя и в трудных случаях рассчитывал на него.
– Так, мол, и так, Михаил Федорович, как же мне быть?
Тот в ответ рассмеялся.
– Право, вы меня удивляете, Александр Андреевич! Да весь материал – в газетах! Сейчас столько отчетов о судебных заседаниях печатается, и там довольно любопытные дела можно почерпнуть для художественных произведений. А то сами поприсутствуйте в суде да понаблюдайте за подсудимыми. Почище чем театр!
С досады на собственную глупость я даже хлопнул себя ладонью по лбу. Как же я сам об этом не подумал? Действительно же, ввиду проводимой как раз в то время судебной реформы в обществе разыгрался нешуточный интерес ко всякого рода делам, рассматриваемым в судах, особенно по уголовной части. Процессы о кражах, покушениях и особенно убийствах – все это щекотало публике нервы, а потому она валом валила на судебные заседания. Кто не имел возможности, скупал газеты: пресса потакала человеческому любопытству и публиковала в рубрике «Судебная хроника» отчеты о наиболее громких процессах.
Я как человек, не чуждый печатному слову, вызвался вести оную хронику в одной из газет. Для этого пришлось оставить службу в гимназии, согласившись на меньший и далеко ненадежный заработок, и снести бурю негодования, что устроила мне жена, когда я сообщил ей эту весть. Но я был одержим новой идеей и не обратил на эти неудобства внимания.
Как выяснилось, я не прогадал. Вскорости я был вознагражден и морально, и материально: увидел свет мой рассказ, написанный по мотивам процесса, где я присутствовал как хроникер. Да не где-нибудь увидел свет, а в столичном, петербургском журнале, куда я все же, после долгих раздумий и сомнений, решился отправить рукопись – плод своего труда. Конечно, биографию преступнику я для рассказа присочинил, но дело в основу мною было положено настоящее, именно то, что разбиралось в суде. И вышло, что публикация рассказа принесла мне и относительно неплохой – при тогдашних моих доходах – гонорар, и относительную – по сравнению с тем же Достоевским – славу.
Не славу даже, а всего-то некоторую известность, если уж совсем начистоту. Но в Воронеже я был героем дня. Часто меня останавливали на улице, как я когда-то Никитина.
– Простите, вы господин Шкляревский?
– Да.
– Это ваш рассказ пропечатан в журнале «Дело»?
– Мой.
Я отвечал односложно, как тот же Никитин отвечал мне полтора десятилетия назад. Моим собеседникам могло показаться, что мне неприятно их внимание, но в действительности я испытывал удовольствие. Теперь я понимал, что Никитин тоже был счастлив, когда юный поклонник его творчества, то есть я, подошел к нему, и только скрывал это.
Быть местной знаменитостью мне нравилось: как оказалось, тщеславие мне совсем не чуждо. Но скоро мой дебют в столичной печати был благополучно забыт в воронежском обществе, что меня огорчило, но не удивило. Все-таки мизерный рассказец – это не «Преступление и наказание». Да, Достоевский был старше меня на полтора десятилетия, а если брать в расчет его несостоявшуюся казнь, то и на целую жизнь, но я понимал, что и достигнув сорокапятилетнего возраста, в каковом он тогда пребывал, я не напишу ничего подобного. Всяк сверчок знай свой шесток.
И все же, даже давая трезвую оценку своим возможностям, отныне я не мыслил себя без занятий литературой. Сочинительству я уделял каждую минуту времени, свободного от газетной работы. Жена была счастлива моему первому успеху, а точнее – присланному мне гонорару, и поддерживала меня в моих писательских устремлениях.
– Пиши, пиши, Сашенька. Хочешь, света подбавлю? Еще одну свечу в подсвечник, а?
– Да, душенька, будь так мила. – Я на мгновение поднимал голову от рукописей, чтобы одарить ее благодарной улыбкой, и снова возвращался в мир преступлений и страстей человеческих – мир своих рассказов.
ИЗ ВОРОНЕЖА В ПЕТЕРБУРГ
Всякая новинка, выходившая за моей подписью в столичном издании, становилась большим событием для меня. Увидев свою фамилию напечатанной, я прыгал чуть не до потолка.
Но неспроста я сделал тут эту оговорку: «для меня». Именно только для меня, ну и еще для жены, когда присылался гонорар. А Воронежу я как герой дня приелся: прошел мой день. Определенно прошел! Ни второй, ни третий, ни тем более последующие рассказы уже не производили в обществе сенсацию. Скорее даже наоборот: все, поздравляя при встрече, за глаза только усмехались: опять, мол, этот, как бишь его, Шкляревский что-то накарябал.
Какая-то атмосфера лицемерия сложилась вокруг меня, лицемерия, взращенного на зависти. Все мои газетные соработники, все бывшие сослуживцы-учителя – все, решительно все завидовали мне!
Хотя, казалось бы, чего мне завидовать, я же не Достоевский! Тот, кстати, в то время жил за границей с молодой женой, жуировал, прохлаждался на водах, играл в рулетку – в общем, наслаждался бытием. Поговаривали, что он был весь в долгах как в шелках и прятался от кредиторов, но я в это мало верю: откуда же у него в таком случае имелись деньги на жизнь в Европе?