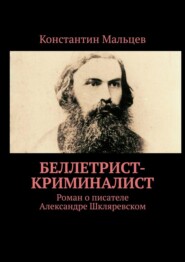скачать книгу бесплатно
Малышев снова огляделся по сторонам и произнес еще более негромким шепотом:
– А нельзя ли сие дознание… истребить?
Я удивился и даже загородил локтем бумагу.
– Это как же?
– А вот так! Вы поймите, если дойдет до разбирательства, это такой удар будет по моей репутации. Я не переживу этого, я уже старый, сердце не выдержит такого позора. И все из-за полоскательницы! Допустимо ли, чтобы человек из-за несчастной полоскательницы погибал?
– Это, разумеется, недопустимо, – согласился я. – Но как же истребить? Я не могу. Это преступление должности. За это и меня самого под суд.
– Да никто же и не узнает! Не губите, господин писарь!
– Нет, никак не могу-с!
– Если угодно, я готов оплатить эту маленькую услугу; для вас она маленькая, а для меня – вопрос жизни и смерти; так что я готов.
«Так вот оно! Взятка!» – промелькнуло у меня в голове. Все слова застряли в горле, и я только смог повторить:
– Не могу!
– Но почему? – настаивал Малышев.
– Совесть. – Я с трудом проглотил слюну. – Не могу пойти против совести.
– Против совести? Да разве сделать доброе дело за небольшое вознаграждение – разве это против совести? Не спасти старика – вот это против совести.
Это был весомый довод.
– Ну, допустим… Сколько?
– Двумя рублями располагаю. Не обессудьте: хотя я и сказал, что пенсия у меня хорошая, но не шибко.
Два рубля! При моем жаловании это был еще более внушительный довод. Я вздохнул и согласился.
– Давайте.
Обмен произошел в мгновение ока: я Малышеву – дознание, он мне – деньги. Тут же он разорвал бумагу на мелкие кусочки, поклонился и, премного довольный, вышел. Я тоже был рад происшедшему. И человеку помог, и небольшой барыш за это получил.
Все бы ничего, но моя махинация вскрылась.
В совершенном спокойствии прошло несколько недель, и я было решил, что проделка удалась. Но тут неожиданно к судьбе дознания, которое давно было уничтожено при моем содействии, проявил интерес частный пристав. Он справился в суде, почему так долго не разбирается дело о полоскательной чашке, ему ответили, что ни о чем таком и не слыхивали.
– То есть бумага вам не поступала?
– Не поступала.
Пристава это разозлило. Может возникнуть вопрос, с чего это он оказался так пристрастен к такому пустяку, как похищение полоскательной чашки из трактира. А суть в том, что он когда-то враждовал с Малышевым и до сих пор питал к нему неприязненное чувство, и когда Малышев имел глупость совершить свой проступок, в нем взыграла не столько жажда правосудия, сколько мстительность.
С горящими от гнева глазами, дыша на меня спиртуозными парами, пристав взял меня в оборот. Сучий сын да сучий сын, что наделал да куда задевал? Я растерялся и даже струхнул под таким напором. Мог ли я не признаться? Наверно, мог, но – признался. Рассказал ему все как было.
Выслушав меня, пристав рассердился еще пуще прежнего.
– Так ты, подлец, вздумал развести тут у меня взяточничество!
– Но ведь все берут, – попробовал я оправдаться, – вы же сами говорили. Да вы же тоже берете.
– То я! А ты мал еще! Да знаешь ли ты, что с тобой за это будет!
Я не знал. Воспользовавшись этим, пристав застращал меня каторгой и чуть не смертной казнью. Потом я понял, что он, мягко говоря, преувеличил, но тогда все, что он говорил, казалось осязаемым. Я даже с ужасом представил, как веревка сдавливает мне шею: в шестнадцать лет воображение работает чрезмерно живо.
Представляю, какое у меня было лицо! Глядя на меня, пристав снисходительно усмехнулся.
– Ладно уж. Сколько ты, говоришь, тебе Малышев дал?
– Два рубля.
– Ха-ха, значит, пятикопеечная полоскательница обошлась ему в два рубля. Очень хорошо, будем считать, что он сполна за нее расплатился. Но ты-то не расплатился. В общем, даешь мне пять рублей – и я тебя прощу. Да, и в отставку ты должен уйти. Уж извини, Александр свет мой Андреевич, но такие люди мне на службе не нужны.
– Но у меня нету пяти рублей.
– Ну так найди! Два есть, еще три займи у кого-нибудь.
– У меня и двух нет. Я их потратил.
– Потратил? Ну, это уж не моя забота. Завтра принесешь пятерик, если в кандалы не желаешь.
Я в кандалы, конечно, не желал и пять рублей, оббегав весь город, всех знакомых, насобирал.
Так бесславно закончилась моя писарская служба.
Знающие люди мне потом сказали, что пристав взъелся на меня не из-за взятки и не из-за того, что я поспособствовал его врагу, а из-за того что я не поделился. То есть мне надо было сразу, как я получил от Малышева деньги, половину отдать приставу, и он бы меня даже похвалил за то, что я такой добытчик и хват. Но откуда же я знал?
Вдогонку поведаю о нижеследующем.
Я сказал приставу, что потратил малышевские два рубля. Я ему не соврал: так и было. А потратил я их на книгу.
Признаю, что это неразумная трата, если брать в соображение мою тогдашнюю – да что там! всегдашнюю! – бедность. Но книги были моей слабостью и моей радостью, и когда появились у меня в кармане нежданно-негаданно деньги сверх жалованья, вопрос, на что их израсходовать, передо мной не стоял. На книгу, на что ж еще! Сперва я, правда, собирался родителям их отдать с гордо-независимым выражением лица, но решил, что деньги мне нужнее, чем их похвала, – да и похвалят ли, когда узнают, каким путем они мне достались!
Я частенько захаживал в книжную лавку поблизости от полицейской части. Но, не имея за душой свободного гроша, только глазел да листал выставленные на продажу волюмы. Владелец лавки, худой как щепка и желтушный, терпел меня, ничего не покупающего покупателя, и не гнал взашей единственно потому, что знал, что я какой-никакой, а представитель полицейской власти, пусть и самый завалящий. Поэтому и мирился с моими визитами.
Но в тот раз я зашел с таким решительным видом, так деловито пробежал пальцами по корешкам книг, что торговец сразу понял: у меня есть средства.
Со всей возможной учтивостью, очень мне польстившей, он предложил свои услуги в выборе хорошего чтения.
– Вы любопытствуете до романов или к поэзии склонны? – спросил он заискивающе.
– Мне б роман, – ответил я. Стихи я тоже любил и знал, но отдавал предпочтение прозе с гимназической скамьи.
– Есть у меня прекрасные французские романы; да вы и сами об этом осведомлены, часто у нас бываете, и я всегда рад вас видеть, вы хотя и молоды, но кажетесь большим знатоком литературы. Поэтому должны оценить. Вот, пожалуйста, Бальзак, Евгений Сю.
Этих я читал, опять же, еще в гимназии, поэтому отказался.
– А российское что-нибудь у вас имеется?
Книжник поморщился и как будто даже еще больше пожелтел лицом.
– Я бы и с удовольствием, но не пишут на нашей многострадальной родине хороших произведений. Загоскин и Гоголь еще сносно писали, но они в прошлом году умерли, так что никакой надежды на будущее русской словесности я не питаю. Некому кроме них писать! Вот Гончаров роман сочинил, «Обыкновенная история» называется. Такая скукотища! Не советую. А что еще? Да ничего, пожалуй. Хотя все же кое-что у меня есть. Вот произведение господина Достоевского. «Бедные люди». Не изволили еще ознакомиться?
Он протянул мне том.
Эту фамилию я слышал впервые: до нашего провинциального захолустья, а вернее сказать, лично до меня, недоучившегося гимназиста, она не дошла. И разумеется, я и предположить не мог, что когда-нибудь потом буду знаком с этим Достоевским и уж тем более что сей великий гуманист (да-да, это тот самый великий гуманист!) так жестоко унизит меня. Это же надо! Как лакея заставить в прихожей дожидаться!
Но до этого было еще почти двадцать лет. А пока я, шестнадцатилетний отрок, вертел в руках том Достоевского и раздумывал, покупать или нет. На титульном листе значилось, что книга выпущена в Петербурге в типографии Эдуарда Праца, год издания – 1847-й. А тогда уже 1853-й был на дворе. Далеко не новинка, стало быть. Еще смущало меня, что роман был очень мал по объему – всего сто восемьдесят с небольшим страничек. Только начнешь читать, только войдешь во вкус – а он уже и закончился.
Видя мои сомнения, книготорговец принялся меня убеждать:
– Уверен, не пожалеете! Замечательная вещь! Когда Белинский прочитал ее в рукописи, плакал от восторга. К тому же эта книга останется для ее автора единственной, так что со временем станет редкостью.
– Почему же она останется единственной? Достоевский умер?
– Не умер, но почти равносильно.
– То есть? – недоумевал я.
– Он в каторге. Выйдет ли оттуда живым – Бог весть. А если и выйдет, то, полагаю, вряд ли будет еще писать. Очерствеет душой, каторга – такое дело. Да вы же человек в этом сведущий, в полиции служите, по опыту знаете, что с каторги люди возвращаются или ожесточенными, или забитыми, но в любом случае потерянными для жизни.
Я не стал разуверять торговца, говорить, что вовсе я не сведущ, что я с людьми дела не имею, а все с бумажками да с бумажками. Впрочем, он и сам это знал, а просто опять мне польстил.
– Но за что же его приговорили к каторге? – спросил я.
– О! Это политический сюжет! Так и быть, расскажу вам.
С интересом узнал я, что Достоевский посещал тайный кружок, возглавляемый неким Петрашевским. Там он вместе с другими петрашевцами (так скопом именовали всех участников кружка) изучал запрещенные социалистические идеи и читал письмо Белинского Гоголю, бывшее под еще большим запретом. Всех этих вольнодумцев арестовали и судили военным судом за мечты «о возможности попрать священнейшие права религии, закона и собственности». Приговор был суров – смертная казнь через расстрел. Но затем суд учел смягчающие обстоятельства и заменил расстрел каторгой. Обвиненным об этой замене, однако, не было сообщено. Им пришлось пережить инсценировку казни, устроенную, вероятно, из воспитательных соображений. На Семеновском плацу в Петербурге петрашевцам, в том числе Достоевскому, был зачитан первый, расстрельный приговор, им завязали глаза, якобы чтобы привести его в исполнение, и они в слезах и ужасе мысленно попрощались с жизнью. Солдатам был отдан приказ целиться. И тут сыграли отбой и огласили приговор действительный – к каторге. Невозможно вообразить, что испытали те, с кем сыграли такую жестокую шутку!
История эта была, как оказалось, общеизвестна, несмотря на ее замалчивание властями, и книготорговец даже слегка пристыдил меня за то, что я в нее до сих пор не был посвящен.
Его рассказ меня впечатлил, на что он, по всей видимости, и рассчитывал. Автор «Бедных людей» представал теперь для меня в романтическом и страдальческом ореоле, и именно поэтому я склонился к приобретению этой книги. Стоила она, если я правильно помню, как раз два рубля.
– Беру! – сказал я, и мы ударили с торговцем по рукам.
Должен заметить, что в итоге я остался разочарован покупкой. Роман мне показался плох, и я решительно не понимал, чем восторгался Белинский. Да и не роман это был, а так, мелкая повестушка! В общем, объегорил меня книжник. Ну да что поделать!
УЧИТЕЛЬСТВО
Какое-то время после того как был принужден уйти из писарей, я прохлаждался без места – и, соответственно, без внесения своей лепты в семейное благосостояние. Естественно, отца не могло порадовать такое положение вещей, и он придумал, как мою судьбу устроить и свою облегчить.
– Хватит тебе бить баклуши, – сказал он однажды. – Пойдешь по моим стопам.
«Пойдешь по моим стопам»? Слишком громко звучало для учителя с копеечным заработком. Я даже усмехнулся.
– Это учительствовать, что ли? – спросил я, не до конца веря, что это не шутка.
– Учительствовать! – подтвердил отец вполне серьезно. – Был бы ты, Сашка, царский сын – царствовал бы, генеральский – генеральствовал бы. А уж коли родился сыном учителя, то одна тебе дорога – тоже в учителя. Чай, неспроста у тебя в писарях не вышло – жизнь подсказала, что ты не тем занялся.
– Но вы же сами мне в писари идти присоветовали! – возмутился я.
– Да, сам, – согласился отец. – Что ж, признаю свою ошибку. Но теперь ошибки быть не может. Кесарю – кесарево.
Как известно, звание приходского учителя может при небольшой подготовке получить любой желающий, начиная с семнадцатилетнего возраста. Что ж, мне как раз к тому времени исполнилось семнадцать. Дело оставалось за малым – выдержать испытание.
Экзамены на учителя проходили в Воронеже, куда я и отправился самостоятельно. Плевые, должен сказать, экзамены оказались. В особенности если учесть, что отец прекрасно представлял, какие будут на них вопросы, и натаскал меня отлично.
Я блестяще справился с устными и письменными экзаменами, сносно дал пробные уроки, что тоже было частью испытания, и получил свидетельство на звание учителя приходской школы. Мне было даже удивительно, как легко и просто все прошло.
Чем еще знаменательна оказалась та поездка в Воронеж, так это тем, что тогда я впервые увидел живого писателя. Точнее – поэта.
Обретался в ту пору в Воронеже стихотворец Иван Никитин. Было ему тогда уже тридцать лет, но первые его стихи только-только появились в печати – в воронежских, а потом в столичных изданиях. Несколько поздний дебют для поэта, но более чем успешный. Критики по силе дарования сравнивали его с Кольцовым, а обыкновенные читатели ни с кем не сравнивали, а просто полюбили его бесхитростные, искренние стихи.
Все это рассказал мне семинарист, у которого я квартировал и с которым сдружился. Говорил он о Никитине с чувством гордости, поскольку тот был воронежской достопримечательностью. Признаюсь как на духу, я испытал к незнакомому мне тогда Никитину зависть, слыша, какое восхищение сквозило в содержании и интонациях речей моего приятеля. За давностью лет точно сказать уже невозможно, но смею предположить, что именно в тот момент я стал мечтать о карьере литератора, чтобы и меня увенчали лаврами поклонники.
Впрочем, выяснилось, что Никитин – не профессиональный литератор, а пишет, как говорят в таких случаях, по велению души. Основное же его занятие – содержатель постоялого двора. Да-да, как моя бабушка!
Семинарист, казалось, поставил перед собой задачу – показать мне Никитина во что бы то ни стало. Несколько раз за то короткое время, что пробыл я в Воронеже, он водил меня к никитинскому постоялому двору, но всякий раз Ивана Саввича не было на месте. Из-за этих неудач друг мой приуныл, его как будто снедало ощущение вины передо мной. Я его утешал, говоря, что ничего, мол, страшного, когда-нибудь буду я еще в Воронеже. Но семинарист возражал:
– Нет, это такой человек, такой человек, ты должен его увидеть! Может, записку ему оставим? Или сами останемся да подождем?
– Да ты вообще хорошо ли его знаешь, чтобы ему надоедать?
– Нет, не знаю вовсе. Просто видел его как-то на улице.
– И только? Пойдем-ка тогда домой!
К радости моего товарища, в последний день перед моим отъездом восвояси в Валуйки произошла счастливая случайность. Нам все-таки встретился Никитин – не на постоялом дворе, куда мы уже отчаялись ходить, а на главной городской улице – Большой Дворянской.
Когда мы совершали по ней прощальный для меня променад, семинарист вдруг толкнул меня в бок.
– Вот он!
– Кто?
– Да Никитин же!
– Где?
– Да вот же стоит, что-то в витрине разглядывает.
Приятель обратил мое внимание на молодого еще человека, который действительно что-то высматривал в витрине магазина. Этот человек, в шинели и картузе, и был Никитин.