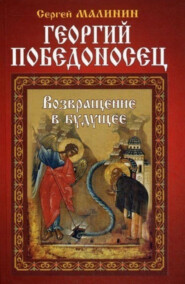
Полная версия:
Георгий Победоносец. Возвращение в будущее
Станислав снова взмахнул саблей; московит отбил удар лопатой. Сталь с отчётливым тупым стуком встретилась с отполированным, потемневшим от долгой службы деревом, оставив на нём глубокую белую зарубку. В следующее мгновение Басманов, отбросив, наконец, деликатность, нанёс Станиславу мощный двойной удар: широким концом лопаты по уху, а после – черенком в живот, прямо под дых.
Выронив саблю, Станислав Закревский сложился пополам и схватился обеими руками за живот. Колени его подогнулись, но Басманов уже был рядом и, подхватив падающего юношу на руки, как ребёнка, бережно передал его наконец-то рискнувшей приблизиться дворне.
– Ништо, оклемается, – сказал он по-русски и повернулся к пану Анджею. – Прости, ясновельможный, пришлось сынка твоего помять маленько. Небось, до свадьбы заживет. Да там и заживать-то нечему. Полежит с полчасика и опять козликом запрыгает… Вишь, по-хорошему не вышло…
– Я всё видел, – склонив голову, ответил пан Анджей, – и я благодарен вам за снисхождение, которое вы явили к моему сыну.
– Да какое снисхождение! – легкомысленно махнул рукой Пётр Басманов. – Нешто убить его надобно было? Так, вроде, не за что, вьюнош добрый, люб мне, как брат. Не пойму только, что это на него нашло. Налетел, яко коршун на перепёлку, глазищами сверкает. «Желаю с тобой на саблях биться!» – кричит. Ну, а мне нешто жалко? Я-то думал, то, как всегда, для потехи да наущения, а оно вон как обернулось… И какая муха его ныне укусила?
– Да ты и вправду ль не понимаешь, в чём дело? – спросил вместо слегка растерявшегося перед лицом такого простодушия пана Анджея подошедший сзади Тадеуш Малиновский.
– А я отродясь словечка кривды не вымолвил, – со спокойной гордостью отвечал княжич. – Посему, коли сказал, что не понял, так, стало быть, и впрямь не понял. Здравствуй, пан Тадеуш. Вижу, вернулся. Хорошо ль ездил?
– Бывало и похуже, – уклончиво ответил пан Тадеуш. – Отца твоего видел, говорил с ним.
– Здоров ли батюшка?
– Здоров, – сказал Малиновский. – Поклон тебе передаёт.
Княжич усмехнулся в русую бородку.
– Ай, пан Тадеуш, негоже в твоих-то годах душой по мелочам кривить! Нешто я князя Андрей Иваныча не знаю? Да у него, поди, хребет надвое переломится, ежели он надумает мне поклониться!
Пан Тадеуш крякнул и сгреб в горсть длинные вислые усы, как делал всегда, когда бывал смущён.
– Выкуп-то, поди, не привёз? – с мягкой насмешкой, будто речь шла о чём-то заведомо невыполнимом, спросил княжич.
Малиновский снова только крякнул в ответ, весьма кстати припомнив, что московит заранее предупреждал и его, и пана Анджея о полной безнадежности их затеи с выкупом.
– Может, сынок-то твой оттого и взбеленился? – обратился княжич к пану Анджею. – Сие на него, конечно, не похоже, да кто ж его ведает? Чужая душа – потёмки…
– Да нет, – вздохнул пан Анджей, приняв окончательное решение, – причина в ином. – Он огляделся по сторонам и замахал руками на челядинцев, что, тесной кучкой стоя на некотором удалении, жадно прислушивались к разговору. – Пошли вон! Вам что, заняться нечем? Раньше надо было глядеть, а теперь нечего глаза таращить! Я ещё разберусь, кто из вас, бездельников, допустил такое безобразие!
Угроза была бессмысленная, но она возымела желаемое действие: дворовые, пряча глаза, торопливо разошлись по своим делам.
– Причина в ином, – повторил пан Анджей, когда подле них не осталось лишних ушей. – Станислав был в городе, и там, как я понимаю, до него дошли некоторые слухи…
Он замолчал, с внезапной горечью осознав, сколь широко разошлась дурная молва, раз уж эта мерзкая выдумка отыскала Станислава в городе.
– Что-то я ныне непонятлив, – сказал княжич, когда пауза затянулась. – Давеча сына твоего не понял, теперь вот тебя… Брось загадки загадывать, ясновельможный! Говори прямо: что стряслось, в чём моя вина? Я пред тобою чист, однако вижу: что-то не так.
– Причина в ином, – снова повторил пан Анджей Закревский и беспомощно оглянулся на друга, как бы ища у него помощи в трудном деле. Но пан Тадеуш только крякнул и отвернулся, смущённо пропуская через красный костлявый кулак длинные, основательно тронутые сединою усы. – Мой сын никогда не напал бы на тебя из-за такой низменной материи, как деньги.
– Материя, конечно, низменная, однако без неё и зубы на полку положить недолго, – со свойственной ему рассудительностью возразил княжич Басманов. – Да и не объяснил ты мне ничего, ясновельможный. Ни о чём таком возвышенном мы с твоим сыном не спорили. Да мы и двух слов-то сказать не успели: налетел вихрем и ну саблей махать!
– Мой сын, – продолжал пан Анджей, благоразумно пропустив эти не содержавшие ничего для него нового слова мимо ушей, – мог до такой степени потерять голову лишь в одном случае: если была задета его честь.
Пётр Басманов беспомощно развёл руками.
– Ну, тогда я и вовсе в толк не возьму, какая муха его укусила. При чём тут его честь? Может, я оттого ничего не разумею, что только наполовину князь? Нижняя половина, стало быть, княжеская, а верхняя, где голова, – мужичья, вот и не поймёт ничего…
Пан Тадеуш Малиновский, которого всё это напрямую не касалось и который, к тому же, ещё не окончательно отрезвел после выпитого за обедом вина, хмыкнул в усы, невольно отдавая должное шутке, но тут же снова надулся, напустил на себя задумчивый и хмурый вид, ибо дело было, увы, не шуточное.
– Дело сие далеко не потешное, – подтверждая правильность его поведения, вздохнул пан Анджей. – Сколь бы ты, Пётр Андреев сын, ни говорил мне о низком своем происхождении, кровь в тебе течёт княжеская, и что такое честь, тебе не хуже моего ведомо. Ведомо тебе, мыслю, и то, что мужчине в семье с младых ногтей надлежит быть защитником и блюстителем живота и чести, особливо когда дело касается женщины – матери, жены или, скажем, сестры…
Княжич Басманов не вдруг сообразил, на что намекает ясновельможный пан Анджей. Произошло сие не от прирождённой глупости или тугоумия, но единственно от простодушия княжича, который, не ведая за собой иной вины, опричь бедности и не совсем ясного, а вернее, очень даже ясного происхождения, не мог взять в толк, на что людям, не имеющим до него никакого касательства, выдумывать про него то, чего на деле не было.
Когда же заключённый в словах пана Анджея неприятный намёк постепенно дошёл до сознания пленного московита, его обрамлённое русой бородкой скуластое лицо закаменело, а серые глаза потемнели и сузились в две недобрые щелочки. Щелочки эти глянули на пана Анджея так, что стоявший поодаль Тадеуш Малиновский на всякий случай придвинулся ближе, положив, будто невзначай, ладонь на эфес сабли. Нападать вдвоем на одного, да ещё безоружного, конечно, негоже, но и бросать старого друга в беде один на один с этаким медведем тоже никуда не годится. После совесть замучит, что не вмешался, не спас, да и люди станут глаза колоть: куда ж ты смотрел, когда товарища твоего и благодетеля русский медведь голыми руками на куски рвал?
– Так это что же получается? – сквозь зубы спросил Басманов. – Выходит, Станислав наш Андреевич на меня налетел, чтоб я сестру его не обижал? А я её, стало быть, обидел? Тогда казни меня, ясновельможный! Всё едино в том, в чём не виноват, я оправдываться не стану.
– Да никто ведь и не говорит, что виноват, – кривясь, словно от зубной боли, с неохотой выговорил пан Анджей. Он даже немного разозлился на своего не в меру простодушного пленника: нельзя, в самом деле, дожив до таких лет и даже бороду себе отрастив, по-прежнему полагать добродетелью детскую наивность!
– А кто ж виноват? – лишний раз подтверждая не слишком лестное мнение о себе, развёл руками княжич. – Ежели я не виноват, почто меня саблей-то рубить хотели? Что-то ты, ясновельможный, недоговариваешь, крутишь ты что-то, душою кривишь. А со мной того не надобно. Ежели есть за мной что-то, чего я и сам не ведаю, ты мне так прямо и скажи. А только, мнится, сказать-то тебе и нечего. Дочь твоя, пани Юлия, пригожа да красна, и нравом кротка, яко горлица, и обижать её у меня и в мыслях не было. Я на неё глянуть-то лишний раз боюсь…
– А вот она на тебя поглядывает весьма благосклонно, – хмуро вставил пан Анджей.
– Да что ж тут такого? – опять развёл руками московит. – На то Господь людям глаза и дал, чтоб на белый свет глядеть. Поглядывает… Да я уж замечал, что поглядывает, оттого её и сторонюсь. Кто я, а кто она? Не будь я твой пленник, да будь мы с нею одной веры, глядишь, и сватов бы заслал. А так…
Он махнул рукой и пожал широкими плечами. Пан Анджей вздохнул. Замечая, какими глазами смотрит на пленника его дочь, Закревский не единожды ловил себя на мысли, что при иных обстоятельствах лучшего зятя ему бы не сыскать. Что с того, что небогат? При его отважном сердце и крепкой руке такой рыцарь мог бы саблей добыть себе и богатство, и славу. Юлии он люб, и она до конца дней своих была бы счастлива, живя за ним, как за каменной стеной. А о чём ещё может мечтать любящий отец, как не о счастии своих детей?
Но печалиться о том было ни к чему, ибо сей путь к счастью для Юлии Закревской был заказан. Слишком много препятствий стояло на этом пути, чтобы всерьёз думать о таком замужестве. А сегодня к этим препятствиям добавилось ещё одно в лице Станислава, который ещё утром почитал пленного московита едва ли не лучшим своим другом, а ныне со свойственной юности поспешной горячностью, похоже, зачислил его в злейшие враги.
– Тебе я верю и вины за тобой не числю, ибо знаю тебя и люблю, как родного сына, – искренне признался пан Анджей, вызвав одобрительный кивок продолжавшего стоять поодаль Малиновского. – Но злые языки разное болтают про тебя и Юлию. Мнится, эти сплетни достигли слуха Станислава…
– Так и думал, что напраслина, – зло проговорил княжич. – То-то он взбеленился! Ты скажи, ясновельможный, кто те сплетни распускает, я ему живо голову носом к пяткам поверну!
Пан Анджей покачал головой.
– Нас в семье двое мужчин, и укоротить языки сплетникам – наше, семейное дело. Первое же, что надобно сделать, дабы оградить честь моей дочери от злого навета, это лишить клеветника повода для измышления новой напраслины.
Княжич невесело усмехнулся и в свой черёд покачал русой головой.
– А повод – я, – сказал он. – Что ж делать станешь, ясновельможный? Нешто на бой меня позовёшь? Как это по-вашему – дуэль?..
– Напрасно ты меня обижаешь, – вздохнул пан Анджей. – Я тебе зла ни словом, ни делом не причинил. А если что не по нраву пришлось, прости – то не со зла, а по неразумию нашему деревенскому. Рода мы, хоть и старого, но не княжеского, посему не обессудь, коль что не так.
– И ты меня прости, ясновельможный, – поклонился пленник. – Принимал ты меня, и верно, как гостя, да жаль, добра из того не вышло. Вместо честного выкупа, кой тебе по обычаю полагается, одно лихо нажил. Как поступить-то мыслишь? Аль перевезёшь меня куда? Вон, хоть бы и к пану Тадеушу на хутор. Хлеб я свой сполна отработаю, и от дочки твоей далече…
Пан Анджей на минуту задумался. Такой простой способ решения проблемы ему как-то не приходил в голову. Впрочем, по зрелому размышлению, способ этот представлялся не таким простым и далеко не самым действенным. Хутор Малиновского не за тридевять земель, в тридесятом царстве, а всего-то в десяти вёрстах отсюда. А десяти вёрст маловато для того, чтобы сплетня зачахла сама собой, как растение без полива и солнечного света. Пока московит будет оставаться в округе, слухи не улягутся. Стало быть, жди новых неприятностей; будут косые взгляды, будут смешки за спиной, обидные намёки; дуэли тоже будут, и, судя по тому, что пан Анджей видел только что, в одной из этих дуэлей, и хорошо, если не в самой первой, погибнет его сын.
– И сколько прикажешь тебя в неволе держать? – спросил он. – До самой смерти? Заставить тебя, князя, землю пахать да за скотиной ходить? Думается мне, нет в том ни чести, ни особого смысла.
– Нешто отпустишь? – удивился княжич.
– Отпущу, – решительно молвил пан Анджей, вызвав удивлённый и вместе с тем одобрительный взгляд Малиновского. – Коня твоего тебе верну, хоть и жалко – конь у тебя добрый. Саблю верну, пищаль – ну, словом, всё, что при тебе было, когда ты ко мне в плен попал.
– Спаси тебя Бог, ясновельможный, – с низким поклоном молвил княжич. – Прости, ежели что не так. А пищаль себе оставь. Пищаль добрая, но для тебя не жалко – дарю. Что же до выкупа, кой тебе, чаю, лишним не будет, то вот моё слово: как только доберусь до дома, продам свою деревеньку и деньги тебе вышлю. А то, глядишь, и сам привезу. Так оно и надёжней, и приятнее выйдет. Мнится, буду я по тебе скучать, ясновельможный пан Анджей.
Они обнялись; вослед за хозяином вчерашнего пленника сердечно обнял прослезившийся от умиления, а паче того от выпитого за обедом вина пан Малиновский. При этом никто из мужчин не заметил, как за углом амбара метнулся и пропал, скрывшись в направлении дома, белый подол девичьего платья.
Юлия Закревская провела ночь без сна, орошая горючими слезами подушку – единственную свидетельницу и наперсницу первой девичьей любви.
А утром, чуть свет, оседлав застоявшегося в чужой конюшне гнедого, княжич Пётр Басманов распрощался с хозяевами и выехал за ворота. Подгоняемый тоской по родным местам, коих не видел уже целый год, он ехал, не оглядываясь, жалея лишь о том, что не может пустить коня в галоп – путь ему предстоял неблизкий, и гнедого следовало беречь. На боку у княжича висела его старая сабля, коей он не держал в руке с того самого дня, как его полонил не столько пан Анджей, сколько не к месту и не ко времени повстречавшийся на дороге сосновый сук; из притороченной к седлу кожаной сумы выглядывала богато изукрашенная рукоять подаренного хозяином пистоля. Нежданно-негаданно получивший свободу пленник держал путь туда, где над чёрной зубчатой кромкой утонувшего в утреннем тумане леса поднималось солнце, не ведая, что путь домой окажется куда более долгим и опасным, чем он мог себе представить.
* * *Расчерченный дубовыми балками потолок терялся в сумраке, равно как и углы громадного, завешенного потемневшими старинными гобеленами и тронутым ржавчиной оружием зала. В закопченной пасти громадного камина, где можно было целиком зажарить быка, горел, потрескивая, жаркий огонь. Его оранжевые отблески играли на выложенном каменными плитами полу, поблескивали на полированных боках установленных в простенках рыцарских лат и озаряли зловещим багровым светом тяжёлое, будто вырубленное топором из твёрдого дерева лицо сидевшего в массивном кресле человека. По бокам узкого, как сабельный шрам, жестокого рта залегли глубокие складки, отчасти скрытые длинными седыми усами, глаза настороженно поблескивали из тёмных, занавешенных косматыми бровями глазниц. Обритый наголо, серебрящийся отросшей щетиной череп, оттопыренные хрящеватые уши и загнутый крючком, подобно клюву хищной птицы, нос дополняли картину. Отсветы огня переливались на золотом шитье богатого кунтуша и вспыхивали яркими подвижными искрами в обрамлённых массивным старинным золотом драгоценных каменьях, что унизывали длинные, костлявые пальцы. Пальцы эти сжимали бумажный свиток, с коего свисала, раскачиваясь на витом шнурке, небрежно сломанная печать. Ноги сидевшего, обутые в мягкие сафьяновые сапоги, стояли на разостланной перед камином косматой медвежьей шкуре, которая бессмысленно таращила на огонь стеклянные глаза и грозно скалила пожелтевшие клыки.
Отхлебнув вина из стоявшего под рукой, на краю бескрайнего дубового стола тяжёлого серебряного кубка, граф Вислоцкий заново, с самого начала перечитал грамоту. Свободная рука, пошарив у горла, нащупала толстую золотую цепь, на которой висел образ Пресвятой Девы Марии, и сдавила так, словно хотела оборвать. Другая рука гневно скомкала свиток, не содержавший ровным счётом ничего утешительного, и швырнула в огонь. Несколько мгновений бумага, как живая, корчилась на раскалённых углях, и написанные угловатыми готическими буквами строки, казалось, извивались, подобно змеям. Затем скомканный лист потемнел и вспыхнул, в два счёта сгорев дотла. Поток горячего воздуха подхватил невесомые хлопья пепла и утащил в каминную трубу.
– Пся крэв! – выругался граф и одним глотком допил вино, что ещё оставалось в кубке.
Из сумрака у дверей бесшумно выступил лакей, на цыпочках приблизился к столу и, избегая даже искоса смотреть на графа, который в гневе бывал страшен, наполнил кубок из стоявшего на столе кувшина. Вислоцкий, казалось, этого не заметил, продолжая остановившимся взглядом смотреть в огонь, будто в прихотливых, никогда не повторяющихся извивах пламени пытался прочесть своё будущее.
– Пожаловал пан Быковский, – доложил лакей – не громко и торжественно, нараспев, как во время приёмов, а вполголоса, ибо граф не любил громких звуков, а недовольство своё выражал самыми неожиданными и порой весьма болезненными способами, от обычного пинка до выстрела из пистоля, ежели таковой случался под рукой.
– Зови, да поживей, – мрачно проворчал граф. – Я уже устал ждать. Где вас всех носит, когда вы нужны?!
Сорвав таким образом на лакее своё дурное настроение, граф откинулся на спинку кресла и пригубил вина.
Стуча сапогами по каменным плитам пола, к нему подошёл и с поклоном остановился в двух шагах от кресла Вацлав Быковский. Густые чёрные волосы пана Вацлава были подстрижены скобкой, со стороны отдаленно напоминая воронёный шлем; шелковистые усы были любовно, волосок к волоску, расчёсаны, а карие глаза на красивом и мужественном лице сердцееда и забияки сверкали затаённым дьявольским весельем.
– Спешу доложить вашему сиятельству, что наш план полностью удался, – обнажив в вежливой улыбке белоснежные зубы, сказал он.
– Спешу напомнить пану, что план был не наш, а его, – громко, чтобы было слышно у дверей, возразил граф и обернулся к лакею. – Налей пану Быковскому вина и убирайся!
Выпрямившись, Быковский отступил на шаг и присел на краешек указанного графом кресла. На его смазливой физиономии, по которой тайно, а порой и явно вздыхала половина замужних женщин в округе, не говоря уже о засидевшихся в девках шляхтяночках, появилось озадаченное выражение: его сиятельство явно был не в духе, а когда граф Вислоцкий не в духе, рядом с ним не мог чувствовать себя в полной безопасности даже король.
Лакей удалился, бесшумный, как призрак. Высокая двустворчатая дверь негромко стукнула, закрывшись за ним. Какое-то время граф Вислоцкий сидел неподвижно и по-прежнему смотрел в огонь, словно забыв о посетителе. Наблюдая за ним и потягивая вино, Быковский задумчиво теребил длинный смоляной ус. Настроение графа не нравилось пану Вацлаву, ибо он уже давно зависел от капризов своего могущественного покровителя. Капризов же становилось всё больше по мере того, как граф старился, и приступы дурного настроения у него случались всё чаще и чаще. Причина раздражительности графа была пану Быковскому хорошо известна: графская казна пустела, а вместе с деньгами иссякало его влияние на короля и сейм – влияние, к коему граф привык так прочно, что полагал его неотъемлемой частью своего положения. Ныне это привычное и весьма удобное положение стремительно менялось далеко не в лучшую сторону; спасти графа мог удачный брак одной из трёх его дочерей, однако женихи что-то не торопились толпами стекаться к его порогу.
Женихов тоже можно было понять: дочери графа, увы, не блистали красотой, и утекающее время ничего не прибавляло к их уже начавшим увядать сомнительным прелестям. И, ежели учесть, что женихи графу Вислоцкому требовались не какие попало, а только богатые, знатные и влиятельные, поставленную им перед собой задачу – поскорее выдать замуж всех трёх дочерей – можно было назвать невыполнимой.
Граф же, казалось, этого не видел – вернее, не хотел видеть, ибо в противном случае ему оставалось бы только признать своё поражение и, опустив руки, смиренно принять то, что уготовила ему судьба. Иной на месте графа так бы и поступил, но его сиятельство был не таков: смолоду привыкнув, что любое его желание исполняется скорее, чем он успеет произнести его вслух, он и к старости не переменил своих взглядов, продолжая стоять на своём с упорством, которое в последнее время стало наводить Вацлава Быковского на неприятные мысли о приближающемся к графу старческом слабоумии.
Вот взять, к примеру, последнюю его затею, авторство коей он зачем-то попытался только что свалить на Быковского. Спора нет, распустив по округе слух, будто бы дочка соседа Юлия Закревская вовсю обнимается за амбаром с пленным московитом, пан Вацлав существенно снизил шансы этой девчонки когда-либо выйти замуж за человека, имеющего хотя бы отдаленное представление о чести и приличиях. Но что с того? Какой от этого прок графу Вислоцкому и его дочерям? Можно подумать, отвернувшись от Закревской, женихи так и кинутся наперегонки в его замок… Без подлых поступков в жизни, пожалуй, не обойдёшься, но подлость, совершаемая ради самой подлости, бессмысленна. А бессмысленно подлые поступки суть признак слабости ума и духа.
Это было скверно. Быковский ничего не имел против того, чтобы верой и правдой служить одному из самых знатных и влиятельных вельмож Речи Посполитой, но расшибаться в лепешку и рисковать головой, выполняя безумные приказы старика, который ни о чём не может думать и говорить, кроме своих засидевшихся в невестах дочерей, представлялось ему не только глупым, но и небезопасным. Выхода, однако ж, не было. Злотые, что бренчали в карманах Вацлава Быковского, попадали туда из кармана графа; еда, которую ел пан Вацлав, и вино, которое он пил, являли собою лишь крохи с графского стола. Сам же Вацлав Быковский не имел ничего, опричь захудалого, сто раз заложенного и перезаложенного имения, кое, как он не без оснований предполагал, у него вот-вот должны были забрать за долги.
Кроме безвыходности положения, Быковского удерживали подле графа ещё кое-какие практические соображения. С его помощью Вислоцкий всё-таки имел шанс добиться желаемого, хорошо пристроить кого-нибудь из дочерей и вновь возвыситься. Тогда, быть может, с ним случится один из нечастых приступов великодушия, и он снизойдет до того, чтобы отплатить Вацлаву Быковскому за труды, выдав за него одну из двух оставшихся невест. Почему бы и нет? Их у него целых три, богатых да знатных женихов на всех троих по всей Речи Посполитой не сыщешь, а Быковский – человек верный и верность свою не единожды доказал.
Замысел сей, казалось, был близок к успешному воплощению. Стараниями Вацлава Быковского ландграф Вюрцбургский Карл, коему, по мнению его высокородного кузена, императора Фердинанда, давно пора было остепениться и завести жену и наследников, заинтересовался персоной средней дочери графа Вислоцкого, Марии. Предварительные переговоры велись уже на протяжении полугода, и Быковский предполагал, что скоро они так или иначе завершатся. Помимо денег и чести породниться с немецким императорским домом, брак сей сулил графу Вислоцкому немалые политические выгоды: королю должно было понравиться, что граф скрепил не слишком прочную дружбу Польши и Германии узами брака.
Посему, узнав, что граф зовет его к себе, пан Быковский воспрянул духом. Невзирая на свой крутой, трудно предсказуемый нрав, его сиятельство, когда бывал доволен, не скупился на вознаграждение. Увы, выражение лица графа предвещало отнюдь не щедрую награду, а нечто совсем иное – то, чего пану Вацлаву и даром не надобно.
Впрочем, ещё оставалась слабая надежда, что дурное настроение графа продиктовано плохим пищеварением или ещё какой-либо из стариковских болячек, кои медленно, но верно начинали одолевать некогда несокрушимого, а ныне основательно одряхлевшего воина и политика.
Граф всё так же сидел, глядя в огонь, и, казалось, не собирался начинать разговор, ради которого велел разыскать Быковского. Решив напомнить о себе, пан Вацлав деликатно кашлянул в кулак и доверительно произнес вполголоса:
– Закревский…
– Что – Закревский? – не оборачиваясь, перебил его граф так резко и сердито, что Быковский едва заметно вздрогнул и переменился в лице.
Рассказ о том, какое действие возымела пущенная им сплетня на молодого Станислава Закревского, был у Быковского готов загодя. Повествование сие было выдержано в шутливом тоне, который, судя по настроению графа, ныне был решительно неприемлем. Перестраиваясь на ходу и оттого скомканно и не совсем убедительно, пан Вацлав рассказал, как по его наущению известная его сиятельству, а заодно и всему городу богатая содержанка Анна Сокульская передала сплетню Станиславу Закревскому, и как тот вспылил, уразумев, о чём идет речь. Рассказал он и о том, какая сцена разыгралась между молодым Закревским и пленным московитом на заднем дворе (сие было ему известно от заранее подкупленного слуги Закревских), и даже о том, что посланный в Москву за выкупом пан Тадеуш Малиновский вернулся из своей опасной поездки с пустыми руками.
Граф слушал его невнимательно – как показалось пану Вацлаву, совсем не слушал. Когда Быковский растерянно умолк, его сиятельство, наконец, соизволил повернуть к нему хмурое, иссеченное тяжелыми складками лицо и скрипучим, истинно стариковским голосом сварливо произнёс:

