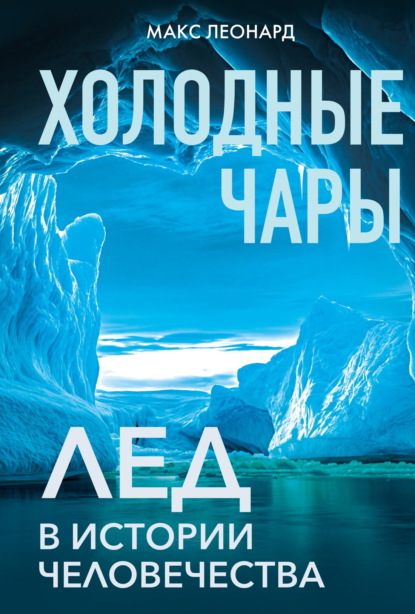
Полная версия:
Холодные чары. Лед в истории человечества

Макс Леонард
Холодные чары. Лед в истории человечества
Лед – интересный предмет для наблюдений[1].
Генри Дэвид Торо. «Уолден, или Жизнь в лесу» (1854)Наша цивилизация подобна тонкому слою льда в глубоком океане хаоса и тьмы.
Вернер Херцог. «Херцог о Херцоге» (2002)Есть мнение, что мир найдет Конец в огне. Другие предлагают лед [2].
Роберт Фрост. «Огонь и лед» (1920)Max Leonard
A COLD SPELL A Human History of Ice
Перевод с английского Елизаветы Олейник
Научный редактор: Маргарита Ремизова, доктор биологических наук
В оформлении обложки использовано изображение ru.freepik.com

© Max Leonard, 2023
© Олейник Е. К., перевод на русский язык, 2025
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство АЗБУКА», 2025 КоЛибри®
Теплая история о странностях, с которой так приятно согреться в суровую зиму…
The TimesВ то время как земля угрожающе нагревается, трудно найти более подходящий момент для этой книги.
Майкл Пейлин,автор книги «От полюса до полюса»Необыкновенная, полная и исчерпывающая история человеческого опыта, связанного с холодом.
Country LifeЛеонард последовательно изображает лед удивительными и проницательными способами, придавая ему магические свойства.
Geographical ReviewЭта книга —прославление человеческой изобретательности и приспособляемости.
The GuardianОт автора
При описании измерений веса, расстояний и других величин я стремился использовать метрическую систему, за исключением тех случаев, когда контекст явно требует британской единицы измерения или цитируемый текст использует ее. Однако многие источники сами по себе непоследовательны, поэтому иногда происходит переход между этими двумя системами[3].
О том, как научиться видеть
История – это повесть о том, что могло бы быть иначе.
Клайв Джеймс. «Культурная амнезия» (2007)Как будто весь мир – застывшая история льда.
Майкл Ондатже. «Через бойню» (1976)
В июне 1741 года англичанин Уильям Уиндхэм поднялся в долину Монтанвер над Шамони во французских Альпах. Он хотел поближе познакомиться с ледником, который своими языками почти достигал деревни, хотя местные жители поднимались на его высоты только летом, чтобы охотиться на серн или искать кристаллы. В 1744 году он опубликовал брошюру, описывающую это путешествие, под названием «Описание ледников, или Ледяных Альп, в Савойе в двух письмах: одно – от английского джентльмена к его друзьям в Женеве, другое – от инженера Питера Мартеля тому самому джентльмену».
Эта короткая работа с длинным названием примечательна тем, что стала первым описанием ледника на английском языке, и тем, что в ней впервые в изложении Питера Мартеля[4] (более известного как Пьер) появляется в печати название «Монблан». Ранее весь горный массив, по-видимому, назывался просто «Ледяные горы» (Les Glacières).
Примечательна и одна весьма любопытная неудача – неспособность передать, что такое ледник и как он выглядит. «Признаюсь, я совершенно не знаю, как правильно передать его облик [1], – пишет Уиндхэм. – Описания, которые путешественники дают о гренландских морях, кажутся наиболее близкими к этому…». И все же: «Возможно, даже это не создало бы того же впечатления».
Таким образом, Уиндхэм оказался в тупике. В тупике потому, что пытался описать нечто уникальное (ледник), чего его читатели никогда не видели, сравнивая его с чем-то другим (арктическими морями), чего ни он, ни они тоже не видели. Он находился на грани человеческого опыта, где слова уже не способны уловить суть явления. За пределами карты. Точно так же, как те моряки на гренландских морях.
Именно здесь доходит до сознания поразительная мысль: Уиндхэм никогда не видел льда. Или, по крайней мере, не по-настоящему. Существует мнение, что именно он дал этому леднику современное название – Мер-де-Глас (Море льда); однако если это и правда, то в брошюре об этом не упоминается. Тем не менее в XVIII веке морская метафора вошла в обиход в Европе, применяясь как к этому леднику, так и к другим[5]. Перенося соленые глубины на тысячи метров вверх по горе, название подчеркивает странность льда и напоминает о катастрофе, оставившей Ноя на Арарате. Это сравнение также интересно тем, что оно неточно: ледники, даже если их вздымают устрашающие замороженные 40-футовые волны, на самом деле не напоминают моря. Скорее, они являются очень охлажденными реками. Таким образом, Уиндхэм, пытаясь создать описание, вновь не смог донести свою мысль.
Тем не менее Уиндхэм, потомок древнего норфолкского рода, должен был видеть лед прежде: тонкий ледяной покров, грязный и мутный, на утиных прудах в деревне его поместья. На Норфолкских болотах, недалеко от Фелбриг-Холла, его родового гнезда, он, возможно, катался на коньках. И, как многие аристократы, он мог наслаждаться напитками, охлажденными льдом, – эта мода появилась еще в XVII веке. Фелбриг-Холл имел ледник – здание, специально построенное для хранения больших запасов льда; возможно, именно этот Уильям (в семье их было множество), вдохновленный воспоминаниями о странных видах над Шамони, и построил ледник. Это, вероятно, произошло при его жизни.
Иронично, что Уиндхэм проделал тысячу миль из-за каприза молодого джентльмена, чтобы взобраться на гору лишь для того, чтобы обнаружить нечто, что уже имел дома. Лед, разумеется, всегда был основополагающим элементом жизни людей во многих уголках мира и на протяжении большей части человеческой истории приносил прежде всего трудности и опасности. Однако до этого момента, когда он испытал недоумение, восторг и удивление, он, похоже, вовсе не замечал этого.
Брошюра Уиндхэма вызвала значительный интерес и стала основанием для его вступления в Королевское общество[6] – главный клуб Англии для научных изысканий. Он сделал первый шаг для дальнейших научных исследований, которые привели к более глубокому пониманию ледников: «Не море, а река» [2], – с раздражением заметил знаменитый ученый Джон Тиндаль в 1860 году[7].
Тем не менее суть остается неизменной: ледники были тем, что человечеству пришлось научиться видеть. И, возможно, это относится и ко льду в целом.
Мы все видели ледники. Возможно, только по телевизионным новостям и в программах Дэвида Аттенборо: ледники, ледяные щиты, айсберги, льдины. Мы в целом хорошо осведомлены об этих вещах, которые тем не менее географически очень отдалены и находятся за пределами непосредственного опыта большинства людей. Эта книга рождена благодаря одному такому моменту, когда я увидел ледники в новостях по телевизору. Одним недавним жарким летом я был на академической конференции в Ньюкасле. В ожидании, когда другие участники придут на ужин, я смотрел работающий без звука телевизор над барной стойкой паба. На экране репортер стоял перед бурлящим серым потоком, стекающим с Гренландии в море, и рассказывал о последствиях климатического кризиса. Проблема заключалась не только в том, что субтитры отставали: разрыв между льдом в моем стакане и тем, что показывали на экране, казался почти абсолютным. И я задумался: как мы можем просить себя заботиться об этом удивительном явлении в одних ситуациях и не замечать его, когда сталкиваемся с ним каждый день в обыденной жизни?
Последние десять лет или около того я долгое время проводил в Альпах – живя и работая, катаясь на велосипеде, гуляя и записывая что-то. Там я полюбил проводить время на горнолыжных курортах вне сезона, бродить по высокогорному снегу в августе и обходить ледники, печально скучающие под палящим летним солнцем. Это дало мне ощущение того, как, казалось бы, неизменный и вечный мир высоких гор меняется под воздействием человеческой деятельности. Я стал лучше понимать уязвимость не только пейзажа к изменениям климата, но и моих друзей, живущих там, – владельцев магазинов спортивного инвентаря, смотрителей горных убежищ, проводников и пастухов. Чем больше я видел своими глазами, тем больше стремился читать в местных швейцарских газетах и на форумах общин во французских долинах об отступающих ледниках и о горных вершинах, которые разрушаются изнутри, сигнализируя, явно давая понять, но лишь высоко и далеко, на краю нашего общего восприятия, об этих изменениях.
Парадоксальным образом я стал восхищаться неожиданными крупицами красоты, которые этот медленный катастрофический процесс открывает: ботинки на гвоздях, пистолеты и бомбардировщики B-17, появляющиеся из-подо льда. С каждым витком Земли вокруг Солнца все большее количество прошлого выплывает на свет. Лед возвращает нам все больше отражений самих себя. Я также начал исследовать, как лед воспринимается в популярной культуре, как он вдохновлял литературу и поэзию, и, следовательно, как исчезновение льда может обеднить нас. Это убедило меня в том, что о льде еще многое нужно узнать и зафиксировать в сознании, именно в тот момент, когда мы теряем его в таких больших количествах.
Лед вдохновляет, но в то же время остается скользким. Попробуйте понять его смысл, и он станет неосязаемым: он превращает горы в пыль и топит корабли, но в то же время является эфемерным и хрупким. Он проник в наш язык и мышление разнообразными и удивительными способами. Лед может быть жирным или черным, тонким или толстым, дробленым, хрупким, грохочущим или оскольчатым. Во многих культурных и религиозных традициях он был ни много ни мало чудом. Согласно норвежской истории сотворения мира, записанной в XIII веке Снорри Стурлусоном в «Младшей Эдде», мир начался, когда лед встретился с огнем в Гиннунгагапе, в первозданной бездне. Ледяные бури были любимым наказанием Ветхого Завета, а «Книга Иова», являясь одной из старейших в Библии, возможно, представляет собой своего рода след народной памяти о травме ледникового периода. «Из чьего чрева выходит лед, и иней небесный, – кто рождает его?» [3] – пишет Иов. «Воды, как камень, крепнут, и поверхность бездны замерзает». Лед здесь является ничем иным, как чудом, и он сохранил свою необычную магию даже после того, как христианство мигрировало в более холодные климаты. Зебальд, отшельник VIII века, использовал сосульки, чтобы разжечь огонь в хижине лесоруба, подвиг, совершенный на пути к тому, чтобы стать святым покровителем Нюрнберга[8]. Он присутствует в фольклоре народов инуитов и жителей горных регионов, в японских, скандинавских и индейских легендах, не говоря уже о сказках Ганса Христиана Андерсена. Эксетерский кодекс, сборник англосаксонской поэзии Х века, признанный ЮНЕСКО одним из «основных культурных артефактов мира» [4], повторяет слова Иова в стихах, описывающих преобразующие свойства льда:
«Волна над волной – странное я виделЧерез толщу воды, чудно-изысканное:Чудо на волне – вода, ставшая костью» [5].Лед полон противоречий и парадоксов. Метафорически он может олицетворять спокойствие и изящество под давлением, но также бездушие, страх, пренебрежение или решимость, а иногда и опасность. Когда мы «растопили лед» – фраза, пришедшая к нам от Плутарха через Шекспира, – мы преодолеваем неловкость и становимся ближе. Когда мы хотим что-то приостановить или отложить, то используем фразу «давайте это заморозим», хотя даже в таком состоянии ситуация может выйти из-под контроля. Большинство людей знакомы с трагической историей капитана Скотта и его спутников, которые замерзли насмерть, уступив первенство на Южном полюсе Роальду Амундсену, в то же время крионика, технология сохранения в состоянии глубокого охлаждения, таит в себе манящую надежду на воскрешение[9]. Прикосновение ко льду может обернуться как обморожением, так и ожогом, но все равно он завораживает и оставляет без чувств. Направьте на него луч человеческого разума, чтобы постичь его истинную сущность, и он может растаять в небытие.
Лед давно сбивает с толку и приводит в замешательство. Несмотря на всю свою повсеместность, H2O – удивительно сложная молекула, а физика и метафизика льда столь же неожиданны, как и метафоры, которые он породил. Задумайтесь: почему лед плавает на поверхности воды и каким был бы мир, если бы этого не происходило? Если бы вода замерзала снизу вверх – что явно не так – это сделало бы жизнь морских существ невероятно трудной и, возможно, прервало бы миллионы лет назад цепочку творения, лишив нас самих возможности существовать. Почему облака, состоящие из конденсированного водяного пара, часто при температурах ниже нуля не замерзают и не обрушиваются на землю потоками льда? В XIX веке Майкл Фарадей, друг Джона Тиндаля, доказал, что лед на самом деле мокрый, разрешив давние догадки, но почему это так, мы поняли только в 2016 году. Почему, как кажется, горячая вода замерзает быстрее холодной, и почему ученые до сих пор не могут прийти к согласию по этому вопросу?
Чем больше я углублялся в свои исследования, тем яснее становилось: это странное и парадоксальное вещество – лед – может служить зеркалом, в котором мы увидим самих себя с неожиданного ракурса. История льда способна стать альтернативной историей человечества. Лед был одним из важнейших мостов, соединяющих нас с миром природы, неотъемлемой частью наших нужд и стремлений и играл ключевую роль в формировании того, кем мы стали. Он влиял на развитие человека еще в глубокой древности, сопровождал земледельцев и кочевников доисторической эпохи и уже применялся как инструмент, когда зарождались великие цивилизации. Лед сыграл столь важные роли в нашей жизни, и с течением времени наша связь с ним лишь крепла. Безо льда мы не смогли бы прокормить себя и лечить больных, как мы это сейчас делаем. Наука не развивалась бы по тем направлениям, по которым она развивается. Лед был предметом наших размышлений, споров и экспериментов, а наши ошибки порой оказывались не менее поучительными, чем успехи. Безо льда наши города, деревни, моря и океаны выглядели бы совершенно иначе, а многие шедевры, украшающие галереи и библиотеки, попросту не существовали бы.
Мы достигли всего этого, как мне кажется, потому что с самых древних времен были околдованы льдом – этой водой, превратившейся в кость. Его облик, прикосновение и удивительные свойства зачаровывали нас. Поэтому на страницах, что следуют далее, вы встретите фанатиков, мечтателей и одержимых: тех, кто поддался ледяному безумию, чьи навязчивые идеи привели их, как в буквальном, так и в переносном смысле, в невероятные места. Ледяные мечты, которые вознесли их на вершины успеха, и миражи, что закончились горьким провалом.
Тем не менее за последние сто лет для миллионов, а может, и миллиардов людей по всему миру таинственное стало обыденным. Лед приручен, укрощен и вошел в повседневный быт. (Unheimlich[10] стало heimlich[11], как мог бы сказать Фрейд.) То, что некогда было источником ослепительного, прозрачного чуда, превратилось в товар, который мы бесшумно создаем в небольшом ящике на кухне и потребляем по мере надобности. Вещество, которое стало для нас почти незаметным – как в буквальном, так и в переносном смысле.
Это снова возвращает нас к незаметному льду в моем стакане и к вопросу о его сродстве с ледниками, плывущими на экране телевизора. Как оказалось, этот вопрос – лишь одна из тех тем, которые все настойчивее обсуждаются в академической среде. В своей книге «Криополитика» доктор Майкл Браво из Полярного исследовательского института Скотта в Кембридже пишет: «То, что до сих пор не получило должного объяснения, так это политическое значение экосистем арктического и антарктического морозного климата и почему они важны для большинства жителей планеты, живущих в городах и не проявляющих особого интереса к полярным регионам»[12] [6]. В эти годы, когда мы сталкиваемся с беспрецедентным потеплением и пытаемся достичь обязывающих международных соглашений для решения климатического кризиса и формирования глобального согласия, этот вопрос становится критически важным. Браво призывает к срочному осознанию взаимосвязи – и времени на раздумья у нас все меньше.
Эта книга тоже посвящена попытке установить эту связь. Опасность показываемых по ТВ картин Гренландии и Антарктиды в том, что эти места кажутся бесконечно далекими: от Западной Европы, от штатов Америки, от большинства урбанизированного мира, который безрассудно подпитывает изменения глобального климата. Это создает иллюзию, что эти изменения – нечто абстрактное, будто бы не наша проблема. Некоторые главы этой книги я писал во время локдауна вследствие COVID-19, когда Альпы, когда-то легко достижимые, казались такими же далекими, как айсберги в море Росса. Мое желание – приблизить лед к нашему повседневному восприятию, исследовать глубину и сложность нашего отношения к нему, вернуть утраченное чувство восхищения перед ним. И тогда катастрофа, разворачивающаяся в далеких уголках Земли, станет для нас более осязаемой: мы почувствуем острее, что именно теряем.
* * *Несколько методических замечаний и предостережений перед тем, как мы начнем. Прежде всего важно отметить, что эта книга не посвящена исследованию высоких широт или удаленных ледяных пустошей. Эти темы имеют собственные богатые литературные традиции, свои порядковые номера в системе Дьюи[13], даже целые библиотеки, а я не полярный исследователь. В этой книге речь идет о переживаниях множества людей, живущих в умеренном климате: о том, как мы, чья повседневная жизнь не определяется присутствием льда в природе, сталкивались с ним, использовали его, и как он, в свою очередь, влиял на наше мышление и действия.
Это ни в коем случае не умаляет и не отодвигает на задний план опыт множества народов, живущих у ледяной вершины мира или рядом с «Третьим полюсом» – в районе Гиндукуша, Каракорума и Гималаев. У них у всех есть впечатляющие истории, которые они могут рассказать. Однако эта книга ближе к дому, моему дому. Когда полярные регионы будут упоминаться, это произойдет в контексте политических, культурных или других событий, происходящих в европейской или западной сферах.
Более того, это история о людях. Она о нашем отношении к нечеловеческому миру, но в первую очередь – о нас самих. Я не собираюсь утверждать, что событие X или Y произошло из-за льда. Лед не делал этих вещей – это сделали мы.
Также следует отметить, что речь в этой книге идет в основном о «нормальном» льде (хотя, признаюсь, это понятие охватывает множество вещей). Лед, если говорить просто, – это вода в ее твердом кристаллическом состоянии, и он проявляется в самых разных формах: снег – это хрупкие ледяные кристаллы, которые образуются из водяного пара, находясь в атмосфере; град – это твердые осадки в виде маленьких ледяных шариков, падающих с неба; крупа – это переохлажденная вода, замерзающая на снежинках; есть еще иней, вечная мерзлота и десятки других названий для разных форм замерзшей воды. И, конечно, не стоит забывать про само замерзание – процесс превращения жидкой воды в лед. Однако большая часть того, о чем говорится на этих страницах, будет касаться того самого льда, который Уильям Уиндхэм не смог описать в районе Шамони или который забивает морозильную камеру у вас дома.
Сегодня, при размышлении о льде – как это было со мной в баре Ньюкасла – неизбежно возникает мысль о глобальном потеплении. Изменение климата действительно присутствует в нарративе, но нынешний климатический кризис выступает скорее постоянно подразумеваемым фоном, чем явной темой обсуждения, по крайней мере, до самых последних страниц. Лед играл множество ролей на протяжении человеческой истории: он был предупреждением, обещанием и метафорой. Но сегодня в первую очередь он стал синекдохой[14]
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Перевод З. Александровой. – Прим. науч. ред.
2
Перевод Л. Оборина. – Прим. науч. ред.
3
В британской имперской и американской системах измерения 1 дюйм = 2,54 см, 1 фут = 30,48 см, 1 миля = 1,6 км, 1 морская миля = 1,85 км. В тексте книги не указывается, идет речь о морской или сухопутной миле. 1 фунт = 0,45 кг. – Прим. науч. ред.
4
Пьер Мартель (1706–1767) – швейцарский инженер, математик и географ, исследователь альпийских ледников. – Прим. науч. ред.
5
Основной приток ледника Нижний Гриндельвальд в швейцарском Бернском Оберланде называется Эйсмир или Ишмир, что означает одно и то же. – Здесь и далее, если не указано иное, прим. автора.
6
Королевское общество (Royal Society) – название национальной академии наук Великобритании. – Прим. науч. ред.
7
На самом деле, идея ледника как ледяной реки, знал ли об этом Уиндхэм или нет, уже была распространена в Англии с прошлого века. Так как он был первым, кто подошел настолько близко, чтобы встать на лед, мы можем проявить благосклонность и сказать, что его внимание отвлекли эти волны.
8
Интересно, что лед также присутствует в «Аде»: девятый круг ада у Данте смертельно холоден, и Сатана изображен как гигантское чудовище, наполовину погруженное в лед.
9
Приставка крио- происходит от греческого слова κρύος (krúos) и означает «лед», «холод» или «мороз».
10
Жуткое (нем.). – Прим. пер.
11
Родное, уютное (нем.). – Прим. пер.
12
Термин «криополитика» был введен в 2006 году Майклом Браво и его коллегой по Полярному исследовательскому институту Скотта, доктором Гаретом Рисом, когда они стремились описать возможные последствия возросшего геополитического интереса к Арктике, вызванного таянием льдов, для народов и ландшафтов этого региона. С тех пор этот термин стал использоваться для изучения различных человеческих вмешательств в криосферу – ту часть мира, которая состоит из замерзшей воды. Мы еще не раз встретимся с этим понятием.
13
Десятичная классификация Дьюи – система классификации книг, разработанная в 1870-х годах американским библиотекарем Мелвилом Дьюи, прообраз используемой в России универсальной десятичной классификации (УДК). – Прим. науч. ред.
14
Синекдоха – фигура речи, один из видов метонимии, подразумевает употребление слова в переносном значении: название большего переносится на меньшее, целого – на часть, использование общего вместо частного или наоборот. – Прим. науч. ред.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Полная версия книги
Всего 10 форматов

