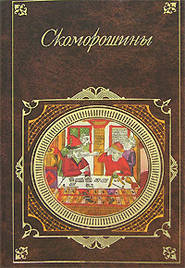 Полная версия
Полная версияСкоморошины
По-видимому, в настоящее время эти представления о божествах земли совершенно исчезли из народной памяти и лишь в виде переживания их имена сохранились в молитвах, свидетельствуя о древности их также, как это делают и олицетворения берега и воды, встречающиеся в этой молитве («бережок-батюшка, водушка-матушка»). Что касается этих последних олицетворений, то и они для современного пудожанина утратили истинное свое значение и служат в настоящее время лишь формой, значение которой крестьяне не понимают. Но бесспорно, что в те отдаленные времена, когда культ языческих божеств был еще крепок, эти олицетворения имели для крестьянина свое буквальное значение.
Не останавливаясь более на водяном, перейду теперь к тем божествам и духам, которые связаны с жилищем пудожанина как с его очагом, так и постройками, так или иначе необходимыми ему в его хозяйстве; к этим духам относятся: дворовой, подполянник, запеченник, жихарь, овинянник, хлевный и баенник. Из них четыре первые живут в доме; хлевный – в хлеве, овинянник – в овине, и баенник – в бане. Подробно на этих домашних духах я останавливаться не буду как по малому количеству данных, имеющихся у меня под руками, так и благодаря безынтересности этого культа у пудожан. Все домашние духи, как дворовой (иногда назыв. домовым), подполянник и запечник имеют, как известно, в своем происхождении связь с домашним очагом, но эта связь в настоящее время утратилась и утратилась при том настолько, что мы почти-что лишь по аналогии можем судить, что современные верования в этих домашних духах – не более, как слабые следы древнего поклонения предков. Дворовых поселяют в подполье. Их число бывает равно числу членов семьи; они управляются большаком; есть у них большуха, есть и дети. Дворовые живут, как обыкновенные люди: они едят, пьют, женятся. Одним словом, проводят в своем подполье время так же, как крестьянин в избе. Большак-дворовой, обыкновенно называемый «избенный большак» пользуется в своей подпольной семье таким же объемом власти, как и крестьянский большак: «что он прикажет делать, то и делают».
Дворовой является людям, и вид его описывается либо как обыкновенный человеческий, либо также «почернее» обыкновенных людей. С ним можно вступать и в разговор. Вот, например, рассказ одной крестьянки, деревни Авдеевской: «мужик раз лежит себе ночью. Видит вдруг вошла баба с зыбкою. Повесила зыбку, а сама у печки греться стала: А-а-а! говорит, холодно! а сама зыбку качает. Испугался мужик, взял да и зажег спичку. Она сейчас в дверь и зыбку с собой взяла. Потушил мужик огонь – лежит. Взошел сам-то дворовой – говорит: „жалко тебе избы стало, что-ли? не пустил бабу обогреться“. Он муж ея был, знать. Мужик опять зажег спичку и тот в ход пустился». Этот рассказ, ярко рисующий нам дворового, интересен между прочим тем, что и он и его жена как-бы боятся света, словно они не совсем «чисты» и как духи нечистые от зажигания огня мгновенно удаляются.
Но это представление о дворовых, как о существах не совсем чистых, является лишь обезображением древних верований, обезображением, которое мы нередко встречаем в отношении к домашним духам почти повсеместно в Великороссии, где домовой также чаще представляется злым, чем добрым. Но в других местах Пудожского уезда, как, например, на Кенозере, дворовой является скорее духом светлым, которого боится нечистая сила. Там, как впрочем и во многих местах уезда, при входе в лесную избушку для ночевки считается необходимым произнести следующую молитву, как сами крестьяне называют это обращение к дворовому лесной избы:
«Большачек и большушка, благословите ночевать и постоять раба Божия (имя рек)». Уже то, что при обращении к дворовому употребляют слова «раб Божий», доказывает, что дворовой не считается местным населением в числе, так называемой, «нечистой силы». Кроме того существуют и рассказы, из которых явствует, что он, дворовой, охраняет отдавшихся под его покровительство лиц от вторжения нечистой силы и наоборот отказывает в покровительстве тем, которые упомянутой молитвы не читают.
Приведу для примера один из таких рассказов: «Мужик один вошел в избушку лесную ночевать, да не благословясь. Лежит он себе, а в углу у печки видит стоит себе леший – большой такой, согнулся в избушке, греется: „А-а-а“. Мужик, знать, печку-то не благословясь затопил. Ведь, как никого нет в избушке то, так они и налезут туда, нечисть-то». Из этого рассказа следует, что благословись мужик, т. е. прочитай он упомянутую молитву дворовому, тот оградил бы его от вторжения в избу лешаго, который в местности, где записан этот рассказ, именно Кенозеро, дер. Вершинине, считается в разряде нечистой силы. И так, в данном случае мы видим, хотя и отдаленное воспоминание о дворовом, как о благодетельном духе, покровителе жилища – воспоминание, которое в большинстве местностей уезда окончательно уступило место другому воззрению на дворового, как на духа сурового, на духа не совсем «чистого».
Кстати, отметить при этом известную странность. Между тем как в лесной избушке живет, по-видимому, один дворовой с женой – в избах населенных их столько, сколько членов семьи, хотя крестьянам и неизвестно, умирает ли дворовой по смерти одного из членов семьи.
Объяснения соотношения числа дворовых с числом членов семьи также нет никакого. Вообще в этом представлении царствует какая-то неопределенность, какое-то смешение понятий. Мне кажется, что в виде гипотезы, это соотношение числа дворовых с числом членов семьи, в виду ее неопределенности, могло бы быть объяснено следующим путем: вера в дворовых, как они являются повсюду, произошла, как известно, от верования, что души умерших предков продолжают жить в доме: чем больше предков умерших, тем больше и дворовых; предок, основатель рода и является в таком случае большаком своих, пришедших к нему после смерти потомков.
Таково первоначальное верование и, быть может, впоследствии, когда вера в предков утратилась, явилось необъяснимым для крестьянина произвольное и неодинаковое у всех домохозяев число дворовых и он, стремясь выйти из этого затруднения, определил число дворовых равным числу членов семьи, так что каждый из членов семьи имеет своего покровителя.[263]
Лишь с течением времени, под влиянием христианства, дворового стали считать силой «нечистой», «черной». Если кто пожелает увидеть дворового – стоит ему лишь надеть хомут на себя, причем этим способом можно узнать о будущем. Вот рассказ одной крестьянки о том, как лицо, ей знакомое, видело дворового. Передаю ее рассказ вкратце. Одна из двух подруг-девушек села в большой угол, между тем как другая влезла на печку и стала смотреть сквозь хомут. Вдруг она увидела двух страшных «черных» мужиков, которые несли гроб: они поставили гроб в большой угол. Это и были дворовые. Девушка так испугалась, что упала с печки. «А та девушка, прибавила рассказчица, что в большом углу сидела, в тот год умерла».
Более интересным является другой способ увидеть дворового: надо спуститься на 3-ю ступень внутренней лестницы, ведущей в хлев, и нагнувшись посмотреть промеж ног. Девушки делают это обыкновенно на святках, чтобы в лице дворового увидеть своего суженого. При помощи этого же способа можно увидеть и подполянника, с которым очень часто смешивают дворового. Он также живет в подполье; их также несколько в доме и подпольная жизнь их ничем не отличается от жизни крестьянской семьи. Это сходство подполянника с дворовым невольно наводит на мысль, не являются ли оба домашние духа тождественными и лишь обозначаемыми разными именами. В рассказах крестьян они часто смешиваются, хотя подполяннику, когда говорят о нем собственно, приписывают больше дурных, чем хороших черт. Он вообще не добр. Как пример смешения дворовых с подполянниками, позволю себе указать, что крестьянка, передававшая о том способе, которым можно видеть дворового, в доказательство правды своих слов привела следующий рассказ: «Мать свою дочь прокляла. Подполянник и затащил ее к себе в подполье. Так она там и замуж выйти успела и стала уж сына женить, да и пришла к матери просить сыта:
«Матушка, говорит, коли хочешь видеть как я живу, сойди три ступени в подполье (именно по лестнице, ведущей в хлев) и гляди промеж ног своих». Ну и увидела их, мать-то. Сидят они все, как наши мужики. Так она и сыта принесла дочке и рубашку».
Средство смотренья с третьей ступени промеж своих ног, чтобы увидеть дворового или подполянника, – обратившееся в настоящее время в простое поверие, быть может, имеет в своем основании связь с глубокой древностью, когда умерших предков хоронили под очагом, под порогами, под полом. Быть может то, что в настоящее время пудожанки проделывают из любопытства увидать своего суженого или узнать знакомый им лишь по рассказам быт подпольных обитателей родительского дома, – их прабабушки-язычницы делали с целью увидеть действительно похороненных здесь прежде своих предков…
К числу домашних духов принадлежат еще: хлевный, жихарь и запеченник. Про этих духов крестьяне немного умеют рассказать. Первый живет в хлеве, отличается своей добротой, помогает содержать хлевы.
Второй – жихарь – злой дух; где в доме он живет, в точности неизвестно, но он опасный для матери сосед: в отсутствии матерей он крадет детей из зыбки, но в присутствии матери он сделать это не решается. Если мать бывает вынуждена уйти из избы, то для предохранения от покушений жихаря украсть ребенка в отсутствие матери, принимаются следующие меры: мать кладет в зыбку ножницы и веретяной камень, а под зыбку, на пол, кладут старый веник. Если принять эти меры предосторожности – жихарь оказывается бессильным. Наконец, запеченник, живущий за печкой, дух веселый, любящий шутить. Пропадет ли у хозяйки ухват, разобьется ли внезапно посуда – все это шутки запеченника.
Наконец, чтобы покончить с домашними духами, скажу еще несколько слов об овиняннике и баеннике. Как известно, во многих местах, даже средних губерний России, наиболее упорно, наиболее живуче сохранился культ духа – покровителя овина, которому даже до настоящего времени приносят в определенные дни жертвоприношения. Но в Пудожском уезде, на основании тех данных, которые нам удалось узнать, культ именно этого духа развит до крайности слабо и лишь бледные отблески древних верований мы встречаем здесь у крестьян. Действительно овин служит жилищем овиняннику, отличающемуся, по мнению крестьян, большим ростом. Крестьяне знают, что овинянник дух добрый, «милосливый». «Он, батюшка, говорят про него крестьяне, чужому не выдаст, только помолиться ему». Ночевать в овине можно совершенно безопасно, если только произнести следующую молитву: «Овинный батюшко, побереги, постереги от всякаго зла, от всякаго супостата раба Божия». И так, на основании этих малочисленных данных можно лишь вывести то, что овинянник принадлежит к числу светлых духов, что он является покровителем своих, если они к нему обращаются с молитвой, защитником их от нечистой силы как и дворовой, в некоторых частях уезда по крайней мере. Больше подробностей об этом духе мне открыть не удалось. Ходит только ряд рассказов о доброте «овиннаго батюшки» «достоверныя истории» о случаях, где эта доброта проявлялась. Позволю себе привести один из таких рассказов: «сошлась раз беседа (местное название для посиделок). А тут как раз старуха перед этим помри. И стали холостые (т. е. молодые люди) дразнить одного парня: явится ему старуха. А он все смеялся. Вышел он с беседы, старуха и пристань к нему. Так он бежать от нея, а она за ним. Взмолился он тут овиняннику. Так он, батюшка, вышел, да со старухой до самых петухов дрался, а парня сберег».
Что касается баенника, или баенного, то это в противоположность овиняннику дух злой, от которого добра ждать нечего. Ночевать в бане никто, даже из самых храбрых пудожан, ни за что не решится. Даже днем страшно идти в баню одному, и женщина или девушка, посланная вперед, чтобы приготовить баню, идет туда с замиранием сердца. В банях не вешают образов и с грудным крестом в нее не входят. Подробностей об этом духе узнать не пришлось, но достоверно то, что он считается «нечистым». Чтобы уяснить себе хоть сколько нибудь значение баенника, позволю себе отметить, что обыкновенно каждая семья имеет свою баню и реже встречаются, что две, три семьи складываются вместе для постройки бани: поэтому каждый баенник является духом, имеющим отношение главным образом лишь к той семье, которой баня принадлежит: он является также, как и упомянутые выше домашние духи – духом семейным, домашним.
Эта обособленность баенников для каждой отдельной семьи является интересной и невольно рождается вопрос: не имеет ли представление о баеннике какой нибудь связи с культом предков, быть может, там похороненных. Вопрос, который я решить не берусь.
Таковы домашние духи пудожан. Как видно культ их почти что изгладился вовсе, оставив за собой лишь бледные следы. Нового он ничего не дает нам: мы не обогатим благодаря этим остаткам, наших сведений о древних верованиях русского народа. Тем не менее, я счел невозможным обойти его молчанием: эти домашние духи все-таки слишком близки пудожанину, слишком тесно связаны с его жизнью, и даже в этом разбитом виде составляют слишком видный отдел в представлениях населения, чтобы не изложить их здесь, хотя бы вкратце, в самых общих чертах.
Материалы по народным верованиям великорусов.[264] Д.Н.Ушаков
<…> Домовой
Духи, населяющие жилища, в огромном большинстве случаев носят название домового или домового деда; кроме этих в нашем материале встречаются имена: доможил, хозяин, домовик и жена его домовичка, дворный (дворной) или дворовый (дворовой). Два последние названия предпочтительно перед другими употребляются в Калужской губ., причем в одной местности Мещовского уезда название «домовой», употребленное вместо «дворовый», считается оскорбительным. Других названий, известных в Великороссии, как напр, подполянник, запеченник, гуменник и т. п., в нашем материале не встречается.[265] Иногда домовому духу не дается названия, и, не упоминая о нем, крестьяне говорят: «он» или «тот-то»; это, конечно, не характерно именно для домового, так как избегать произнесения имени духа – явление весьма распространенное (и не только в России); но этот обычай в данном случае мешает выяснению вопроса о том, населяло ли первоначально «двор» несколько духов с различным местом жительства (изба, хлев и проч.), которые впоследствии слились в одном «домовом», или, наоборот, различные стороны деятельности одного сберегателя домашнего очага и хозяйства получили в народном представлении каждая своего представителя. Домовой находится в каждом доме, и в каждом доме по одному домовому. Больше одного домового не уживается в одном доме; а сталкиваться двум домовым приходится в том случае, если при переходе дома во владение другого лица новый домовой уже успел вместе с новым хозяином переселиться, а прежний домовой еще не приглашен своим хозяином следовать за ним на новое жилье; домовые разных дворов обыкновенно враждуют между собою, так как им в заботах о своем дворе часто приходится действовать в ущерб соседнему двору (о чем ниже).
Итак в большинстве местностей, откуда мы имеем ответы, известен лишь один дух жилья, которого мы далее и будем называть вообще «домовым».
Что касается в частности Медынского уезда Калужской губернии, где, как сказано выше, наиболее употребительным названием является «дворный» или «дворовый», то в одних местностях уезда дух, носящий это имя, признается тождественным с «домовым», в других же – «домовой» и «дворовый» считаются различными духами: первый живет в доме и имеет, по-видимому, большее отношение к людям, второй живет на «дворе» и ведает скотину. И тот и другой находятся опять-таки в каждом дворе.[266] Из того же Медынского уезда сообщается между прочим, что дворный находится в «каждом доме, где есть скотина»; к сожалению, в этом именно сообщении ничего не говорится о различии «дворного» от «домового», так что остается неизвестным, существует ли «домовой» в том доме, где нет скотины, между тем как знать это было бы важно для определения различия между «домовым» и «дворовым» и их взаимных отношений.
Своим местопребыванием домовой указывает на преимущественные отношения к скоту: живет на дворе, чаще всего в лошадином хлеве, где любит сидеть на перемете. Но в числе мест его пребывания указываются и строения, имеющие другое назначение в хозяйстве: овин, клуни, рига. На жительство домового в самой избе нет указаний: известно лишь, что иногда он стонет в подполье (избы). Кроме того известно, что при сношениях с домовым обыкновенно даже оставляют избу, напр., в случае его гнева умилостивительную жертву (о чем ниже) ему выносят в сени, – факт, заставляющий видеть в современном духе жилья именно «дворового» духа в более узком смысле термина (т. е. если «двор» понимать не в смысле всей крестьянской усадьбы).
В большинстве случаев домовой одинок или, по крайней мере, о семье его ничего неизвестно. В нашем материале есть только одно косвенное указание в этом роде, где сказано, что домовые «плодятся», и одно вполне ясное, идущее из Смоленской губернии, свидетельство о том, что домовой (там он называется хозяином) женат, что жена его называется домовичкой и что они имеют детей, плач которых иногда можно слышать.
Что касается образов, в которых является домовой, то их можно разделить на два разряда: или домовой имеет вид человека, или вид животного. В первом случае домовой представляется частию «старым-престарым» стариком и притом иногда лохматым, частию же домовой – человек среднего роста, сутуловатый, широкоплечий, коренастый; оброс длинной шерстью (по цвету шерсти: гнедой, вороной, белый или пегий); одет в старый зипун и лапти.[267]
Кроме роста обыкновенного человека, домовой может иметь и огромный рост, напр. выше дерева, с сосну ростом.
Помимо образа человека вообще, преимущественно старого, домовой является и именно чаще всего в виде какого-либо известного человека, принадлежащего к той семье, на дворе которой он живет. Так, в нашем материале мы встречаемся или с представлением домового в виде отсутствующего члена семьи (мужчины), или с наиболее распространенным и известным в науке представлением домового в образе хозяина дома, старшего члена семьи, как живущего, так и умершего. Похож на хозяина он цветом волос, одеждой, ростом и может явиться в таком виде самому же хозяину.
Наряду с человеческим видом домовой может принимать образы кошки, собаки, зайца. Насколько естественными являются представления духа, имеющего столь близкое отношение к домашнему очагу, в образе домашних животных, настолько мало понятным представляется упомянутый образ зайца. Надо заметить, что этот последний образ домового является один только раз в нашем материале на всю массу случаев первого рода (т. е. образов домашних животных). Домовой, как кажется, должен был уже утратить в народном представлении характерные черты своей физиономии, чтобы явилась возможность заподозрить домового в зайце, выбежавшем с одного двора и пропавшем на другом дворе, как это было в рассказе, который я здесь имею в виду.[268] Как в человеческом виде домовой имеет волосы одного цвета с хозяином дома, так и цвет шерсти собаки или кошки, в виде которых он является, одинаков с хозяйскими волосами. Может быть, в связи с представлением домового в виде собаки существует поверие о дружбе его с собаками.
Что касается способов увидеть домового, то в нашем материале сообщается следующее. Домового обыкновенно можно видеть через хомут или через хомут и борону, наконец, – с небольшим, но характерным видоизменением первого способа – через хомут, при котором непременно есть гужи: «чтоб вышел крест». Можно также увидеть его на святой неделе, смотря по углам со свечой от светлой заутрени: от этой свечи домовой не может укрыться. Днем домовой не виден. Стараться увидать его вообще не следует, потому что он очень страшен и потому еще, что он не любит любопытных, «гладит» их, обдирая лицо или спину, или, наконец, толкает их в яму, погреб, сталкивает с лестницы, с сеновала и т. п.; поэтому, из боязни рассердить домового, не следует высказывать излишнего любопытства и выходить, напр., из дому на шум, если при этом не лают собаки, друзья домового.
Так или иначе, а увидеть и даже ощупать[269] его все-таки удается; так, каждый хозяин знает своего домового.
Теперь обратимся к занятиям домового и его отношению к дому и семье. Выше уже было упомянуто, что домовой по современным представлениям имеет больше отношения к скотине, чем к людям. Из скотины особой любовью его пользуются лошади. Но у него есть также и нелюбимая скотина, именно, несходная с ним самим по масти.
Любимый скот он чистит, кормит, поит, выбирая для него корм у нелюбимого; любимой лошади он заплетает гриву, которой обыкновенно и не расплетают хозяева, чтоб не прогневить домового. Если он не полюбит какого-либо животного, то может извести его: он гоняет нелюбимых лошадей, так что те оказываются на утро все в мыле, отнимает у них овес, наконец, заваливает их даже в корыто или чан, из которого их с трудом приходится освобождать. Такую, пришедшуюся не ко двору или «не в руку», скотину спешат продать и справляются у домового, какой масти ему нужно; при этом нужно смотреть через хомут, и домовой, говорят, иногда дает ответ с указанием желаемой масти. Кроме своих, так сказать, специальных забот о скоте, домовой не чужд забот о благосостоянии всего дома вообще: охраняет дом, бережет от беды семью и даже посылает ей счастье. Являясь сторожем хозяйского добра, он в случае кражи ходит в дом вора и воет там в переднем углу до тех пор, пока вор не возвратит похищенного. Наконец, в случае пропажи скота, он иногда отправляется на поиски в лес, поля и пригоняет его домой.
Домовой между прочим является и предвестником будущего (обыкновенно будущего несчастья), что делает или по своей собственной инициативе, или же бывает вызван на это. Так, когда он ночью «наваливается» на спящих, то его можно спросить: «к добру или к худу?» и получить тот или другой ответ. Отвечает он или прямо, человеческим голосом, или условно: если ему надо ответить «к добру» – он молчит,[270] в противном случае – издает звук «х». Перед бедою, напр., перед покойником, пожаром, он окликает хозяев, плачет и стонет под полом. Самое появление домового в некоторых местностях считается предвестием беды, большею частию смерти; в этом случае он является в виде хозяина, или умершего деда, или хозяйского сына. Знанием домовым будущего можно воспользоваться и следующим образом. Иногда в различных частях жилья вдруг слышится – и слышится всегда только одному лицу – плач ребенка: это плачет дитя домового; в этом случае можно покрыть платком то место, откуда слышится плач (скамью, стол, куст, если дело происходит вне избы), и «домовичка», мать, не находя скрытого ребенка, отвечает на задаваемые ей вопросы, лишь бы открыли ребенка; спрашивать в этом случае можно все, что угодно.
До сих пор домовой являлся у нас более или менее добрым существом, расположенным к людям; но он не всегда добр. В перемене же отношений его к людям виноваты бывают обыкновенно последние. Обидеть его можно, между прочим, божбой, бранными словами, произносимыми за едой и т. п. Обиженный домовой или вымещает свою злобу на скотине[271] или чаще, по своему миролюбивому характеру, просто уходит из дому и уходит на беду семье и дому: обитатели дома по его уходе болеют, умирают, на здоровых людей находит уныние, скотина худеет и мрет. Кажется, единственная неприятность, которую он причиняет людям без видимой причины, это то, что он наваливается на них во время сна и душит,[272] причем принимает вид кошки или лохматого старика.
Так как обида, причиненная домовому, не влечет за собой ничего хорошего, то его стараются всячески ублажать и в случае ссоры – восстановить с ним добрые отношения тем или иным способом. В Медынском у. Калуж. губ. в чистый четверг втыкают на дворе можжевельник, под верею льют святую воду, курят ладоном, – все это домовой очень любит; в Мещовск. у. той же губ. перед масленицей в заговенье ему выносят остатки скоромной пищи и оставляют их под комягой; в Рыльском у. Курской губ. после ужина в «хороших семьях» на столе всегда оставляется на ночь «харч» для домового. Рассерженного домового умилостивляют обыкновенно тем, что отправляются во двор с хлебом-солью. В Ельнинском у. Смоленской губ. это называется «относить относы», причем там названный обряд совершается следующим образом: берут кусок хлеба, посыпанный солью и завернутый в чистую белую тряпку, прошитую красной ниткой, выходят в сени или на улицу (на перекресток) и, положив на что-нибудь хлеб-соль в тряпке, кладут четыре земных поклона на все стороны, читают Отче наш, а также заклинания, призывающие «хозяина» возвратиться в дом и переложить гнев на милость; белая тряпка с красной ниткой, как объясняется, изображает рубаху, жертвуемую домовому; для исполнения этого обряда приглашаются обыкновенно люди, которые «знают» или «шупят»; кроме Отче наш ими читаются еще молитвы к Б. Матери, Миколе, Прасковее-Пятнице, а также к семи сестрицам, к бел-горюч-камню; текстов этих молитв и заклинаний не удалось записать.



