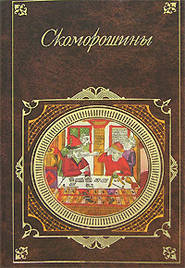 Полная версия
Полная версияСкоморошины
Этих интересных подробностей мне не удалось узнать в Пудожском уезде. И обычай окропления скота водой, взятой из трех ключей, и боязнь, что чтец, не окропленный той же водой, как и обойденный им скот, может похитить часть силы молитвы, дышат такой отдаленной эпохой, такими свежими воспоминаниями того времени, когда вода считалась священной, что как-то невольно переносишься в гораздо более отдаленные от нас времена; эти обряды рисуют случайно сохранившееся переживание очень далекого от нас быта и я поэтому позволил себе подробнее остановиться на них.
В Пудожском уезде, в некоторых его частях, по крайней мере, соблюдаются при обходе скота следующие обряды: в тех местностях, где читается первый из приведенных мною заговоров, наблюдаются при обходе скота следующие формальности: скот загоняют во двор или в загородку и с иконой и зажженной восковой свечой в руках обходят скот по солнцу 3 раза. Затем из свечи делают три шарика и, по прочтении заговора, приклеивают из-за ворот, затем бросают.
Там, где употребителен второй заговор, пастух также делает три шарика из воска и приклеивает их к иконе; за иконой же хранится и отпуск. В иных случаях каждая домохозяйка делает это для себя и своего скота. В шарики закатывается подчас немного шерсти, срезанной от каждой выгоняемой на пастьбу коровы. Эти восковые шарики домохозяйки хранят за иконами и, по окончании пастьбы, спускают либо в реку, либо в озеро. Там, где шарики катает сам пастух, спускание шариков в воду производится им самим по окончании пастьбы.
Когда читают третий вид заговора, то, по словам рукописи, следует при прочтении отпуска «взять от всякой скотины из уха серы в чистый воск закатать да ключ с замком, да с муравейника земли, с которой четыре дороги, и около скота … да кругом обойти… трижды по солнцу на все на то наговаривать трижды; воску положить на обе стороны ворот, ключ на сторону: на другую – замок, на обе стороны ворот земли положить: на сторону ворот; на другую ножик (конец рукописи испорчен).
Хотя в этих обрядах мы и не видим тех архаизмов, как в обрядах, употребляемых в Вытегорском уезде, так как здесь влияние христианства по-видимому отразилось сильнее на изменении суеверных обрядов населения, тем не менее и здесь мы замечаем также остаток мышления первобытного человека: вера в то, что собранная часть шерсти, закатанная в шарики из воска и сберегаемая за иконой, спасет все стадо, что отданная под непосредственное покровительство иконы pars pro toto, что шарики и шерсть, сберегаемые и от дурного глаза и влияния злого человека самой иконой сохраняет достояние крестьянина, – дышит таким архаизмом, такой далекой эпохой, что как-то странно встретить его среди сравнительно развитого населения Пудожского уезда.
Как отдаленное воспоминание культа воды, сохранился обряд бросания этих шариков, по окончании пастьбы, в воду. Это может быть, впрочем, объяснено двумя способами: либо как вещь священную, лежавшую за иконами, шарик нельзя выбросить просто на улицу и во двор, где его могут попирать ногами; либо эти шарики являются предметом, с которым связано какое-то суеверное представление. Взгляд, что вещь священную нужно уничтожить либо посредством огня, либо воды, либо погребения в землю, одним словом, при помощи так назыв. «чистых стихий», как известно, очень распространен в народе. Известно, что, например, испортившиеся иконы не бросают, а либо сжигают, либо погребают, либо спускают в воду.
Об обычае спускать старую ненужную икону упоминают и древние писатели о России. В самой Москве этот обычай сохранился до последнего времени. Тоже делают с просфорой, высохшей и неудобосъедаемой: ее даже в Москве до последнего времени бросали в колодцы. Подобно тому, как во всех этих обрядах сохранилось, как переживание, темное воспоминание о воде, которая наиболее достойна принять священный предмет, так, быть может, это же воззрение лежит в основании обряда бросанья упомянутых восковых шариков в озеро.
Быть может, и другое соображение обусловливает вышеупомянутый обряд: известно по народным повериям, что для того, чтобы «испортить», погубить человека или животное, нужно, чтобы желающий погубить имел в своих руках кусок одежды обрекаемой на погибель жертвы, или вообще что-нибудь, что составляло-бы необходимую принадлежность данной личности или животного. Естественно, что человек, находящийся на низкой степени развития, боится, что, если шерсть животного или кусок одежды или часть волос кого-либо, порчи которого он не желает, попадется в руки человека, могущего «навести порчу», что таким образом все его достояние, самое дорогое из всего его имущества, даже, он сам, может подвергнуться опасности быть испорченным. Отсюда и обычай сжигать или бросать в воду, напр. срезанные волосы, ногти и т. д.
Будучи брошены в воду, они затериваются и для колдуна, для человека злого нет возможности получить их. Этим, быть может, также объяснен обычай бросать шарики с шерстью от коров в воду, чтобы никто не мог их найти и заклятиями и заговорами над ними, причинить вред находящемуся в доме скоту.
Как-бы то ни было, но ни молитва, которой начинается «отпуск», ни такие предосторожности, как положение отпуска и шариков за иконы, не считаются жителями Пудожского уезда достаточными, чтобы «оберечь» свой скот от лесовика или лесного царя. Маленькая упущенная формальность, случайно неверно произнесенное слово может уничтожить всю силу заговора, и лесной царь, гневаясь на лиц, желавших силой заговора и обрядов ограничить его власть над скотом, нашлет намеренно больше диких зверей на стадо и большее количество коров заведет в глубину леса, к себе. Поэтому-то лучше дружить с лесным божеством. Благодаря этому пастухи предпочитают заключать договор с лесовиком, по которому ему предоставляется право взять к себе известную часть скота (обыкновенно, впрочем, не больше одной, двух коров).
За это лесовик обязан оберегать стадо. Этот договор с лесовиком считается очень греховным, но и на него соглашаются крестьяне, лишь бы их стадо оставалось целым. Договор заключается при посредстве строго определенной формулы – заговора, из которого нельзя выкидывать ни слова.
Действительно не все пастухи знают как это сделать; а те, которые знают, хранят эту тайну и не всегда решаются говорить об этом односельчанам. Некоторые крестьяне так же знают слова заговора, но боятся рассказывать его. Этим-то страхом сообщить вещь, которая считается столь греховной, и объясняется, что до сих пор этот заговор не проникал в печать; этим же объясняется, что крестьяне, сообщавшие нам об этом договоре с лесовиком, все, поголовно, отзывались незнанием слов заговора, ни за что не соглашались открыть нам слова его.
В виду возможности заключить с лесовиком подобный договор и является существенно необходимым при пропаже скота из стада узнать, пропала-ли она по «шалости» лесовика или была пропавшая скотина ему завещана. Чтобы узнать это, обращаются к лицам, которые, по мнению населения, «знаются с лесовиком», – «есть такие люди», прибавляют обыкновенно при этом.
Эти люди обыкновенно отправляются в лес, становятся не перекрестке и свищут. Лесовик приходит на свист. «Человек, который знается с лесовиком», спрашивает его, что пропавшая скотина была ему завещана или нет. Если она была завещана, то хозяину пропавшей скотины остается лишь примириться со своим горем: ничто не может помочь ему вернуть скотины (корову или лошадь), уведенную лесовиком. Другое дело, когда лесовик похитит у него скотину ему не завещанную.
Потерпевший, узнав от того, «кто с лесовиком знается», что он может вернуть пропавшую скотину, так как она лесовику завещанной не была, совершает то жертвоприношение, о котором я уже говорил выше. Хозяин пропавшей скотины, взяв завернутое в тряпку или бумажку яйцо, отправляется в лес на перекресток и, положив на левую руку яйцо (иногда и ржаные лепешки), произносит следующие слова: «Кто этому месту житель, кто настоятель, кто содержавец, тот возьмите дар, возьмите и домой скотинку спустите, нигде не задержите, не за реками, и не за ручьями, и не за водами»; он оставляет яйцо на перекрестке для лесного царя. Скотина после этого должна найтись.
Таков в общих чертах культ лесного божества. Не останавливаясь на некоторых чертах лесовика, которые мы можем встретить почти во всех местностях, населенных великорусским племенем, отмечу лишь то, что в наиболее развитой форме этот культ является среди жителей, населяющих берега оз. Купецкого и в близлежащих от него деревнях. Этот культ сохранился здесь наиболее цельным не оттого, что леса, окружающие это озеро, более дремучи, чем в остальных частях уезда, не оттого, что городская культура здесь оказала меньшее действие, чем в других деревнях. Напротив того, во многих частях уезда лес заполонил большее пространство земли, более дремучим растянулся он по берегам озер и по кряжам гор. Городская культура более чем в большинстве других частях уезда оказала свое действие. Вернее будет искать причину сохранения культа лесовика в самой жизни крестьянина, поселившегося издревле на Купецком озере.
Главное занятие его хлебопашество; рыболовство уступает ему первенство, так как само Купецкое озеро с прилежащим к нему Тягозером не велики (первое 4–5 в. шир. и приблизительно такой же длины; второе 6–7 вер. длины) и не в состоянии обеспечить жителей рыбой. Хлебопашество, как я уже сказал, требует от местного крестьянина усиленной борьбы с лесом. Проводя почти все лето в лесу, крестьянин невольно сживается с ним. Дело в том, что в виду того, что лядины отстоят иногда верст за 15–20 от деревни, крестьяне, запасшись провизией на неделю, отправляются утром рано в понедельник, пребывают в лесу целую неделю и лишь в субботу вечером возвращаются домой. И так почти все лето.
Неудивительно поэтому, что лес должен был оказать наиболее сильное влияние на воображение крестьянина данной местности, что из духов, населяющих, по верованиям крестьян, землю, – лесовик, как наиболее близкий, должен был пользоваться и наибольшим почетом, что культ его наиболее развился.
Понятно поэтому также, что в иных местах где рыболовство занимает первое место в экономическом быту крестьянина, где ему приходится не столько проводить время в лесу, сколько на волнах озер, что в таких местностях культ лесного духа должен был отойти на второй план.
К таким относятся жители берегов оз. Водлозера. Близость этого последнего, имеющего 60 в. длины и 40 в. шир., изобилующего при этом рыбой, должно было повлиять на занятия местных жителей, которые и являются с давних времен рыболовами, и лишь отчасти хлебопашцами. Поэтому естественно, что культ духа лесного не мог здесь развиться, но зато также естественно, что именно здесь, где большая часть дня крестьянина проходит на озере, которое, как и все озера севера, крайне непостоянно, должен был развиться культ ветра и духа воды. То стоит тишь и лов идет удачно, то вдруг подует северик и рыбы не станет. «Северик подует – из котла рыбку повынет», говорят водлозеры, желая указать зависимость главного источника их дохода от случайных перемен ветра.
Поэтому здесь, на Водлозере, является антропоморфизация ветров, если и не всех, то, по крайней мере, главного и самого опасного для крестьянина – северика. Это старик, и старик суровый. Ветры то помогают, то препятствуют плавающему на озере рыболову. Они едут на тройках и дуют, поднимая то попутный, то встречный ветер. Употребительно у водлозеров заклинание ветра, которое мне не приходилось встречать в других местностях Пудожского уезда. Если ветер попутный, но дует слишком вяло, так что парус не надувается, водлозеры произносят следующее заклинание:
Сивушки-бурушки,Вещие вороняюшкиПособите, дружки,Помогите.Как моего дедушку слухали,Как моего батюшку слухалиПослужите и мнеВерою-правдою, силою крепкою.Если попутный ветер дует слишком сильно, то начинают его просить дуть потише: «Перестань, ишь разгулялся: что ты! потише!» Снимают шапку, просят и, если ветер случайно не ослабеет, грозят ему кулаком и грозно прибавляют: «Говорят тебе перестань! Не смей!»
Но гораздо страшнее для водлозера водяной. В отношениях к божествам воды следует также отличать водяного царя от простого водяного. Этот последний стоит в тех же отношениях к царю водяному, как простой лесовик к лесному царю. Он также подведомствен ему. Но понятие о лесном царе гораздо определеннее, чем представление о царе водяном. Первый господствует над лесом, окружающим селение, водяной же менее определен. То он является главным начальником и управителем озера, которому служат и которого слушаются водяные рек и ручьев, втекающих в это озеро, и водяные мелких озер, сообщающихся посредством рек с большим озером. То в одном озере их оказывается несколько. Нечего и говорить, что понятие о водяном царе подчас смешивается с понятием о простом водяном. Простых водяных часто видают: они выходят на берег, где сидя у воды расчесывают себе волосы. При появлении человека они обыкновенно бросаются в воду.
В общих чертах водяной, царь водяной, в отношении своей деятельности, в отношениях своих к людям мало чем отличается от водяного наших средних губерний. В виду этого, я на нем останавливаться не буду. Отмечу лишь тот факт, что в Водлозере живут, по преданию, два водяных: один у Пречистенского погоста, другой у Ильинского.
Дело в том, что все население, ссевшееся по берегам и островам Водлозера, делится в церковном отношении на два прихода: Пречистенский (ближе к южному берегу озера) и Ильинский в 15 верстах от первого (по озеру), ближе к северному берегу. О построении церквей в том и другом погосте ходят у жителей сказочные предания, впрочем того характера, который очень распространен по всем местностям России. Рассказывают, что Ильинскую церковь хотели прежде построить на другом месте и привезли для этой цели лес на место, предназначенное для постройки церкви. Невидимая сила снесла его на остров; лес снова привезли на место, предназначенное для постройки; но невидимая сил вернула лес снова на тот остров, где он был найден после первого раза. И так несколько раз. После этого жители решили, что сам Бог назначает место, угодное Ему для постройки храма. И церковь во имя Св. Ильи была воздвигнута на том острове, где она стоит до сих пор. Такое же предание, с незначительным лишь вариантом, ходит и о построении церкви в погосте Пречистенском.
Хотя этого рода предания очень распространены в народе, но на этот раз, касаясь положения водлозерских церквей, они останавливают на себе внимание. Дело в том, что тот и другой погост расположены на островах, причем узкий пролив отделяет Пречистенский погост от материка, а Ильинский погост отделяется узким проливом от другого острова. В проливах, по преданию жителей, помещаются водяные.
Впрочем для Пречистенского погоста водяной иногда помещается и в другом проливе, отстоящим от погоста в нескольких верстах и называемого железными воротами. Один водяной называется поэтому пречистенским, а другой – ильинским. Это обстоятельство, именно что местожительство водяных означается около погостов, заставляет думать, что сами церкви построены в местах, на которых в давние времена, быть может, стояли священные рощи, остатки которых сохранились и до сих пор в разных местах Пудожского уезда; о них я буду иметь случай говорить ниже. Как бы то ни было, но на мой взгляд, сближение жилища водяного с местом нахождения церкви едва ли случайное. Вероятнее, во всяком случае, что христианская святыня лишь заменила собой языческую, и освятила своим присутствием место, где прежде, быть может, приносились жертвы языческим божествам; что места, на которых в настоящее время стоят церкви, были прежде языческими святилищами, и вновь прибывшее христианство лишь заменило божество языческое храмом Св. Ильи, изменило, так сказать, предмет, но не место поклонения… Во всяком случае можно предположить, что культ водяного здесь очень древен и, быть может, унаследован русскими от финнов. Постройка же церквей на этих местах тем более вероятна, что, как известно, вообще постройка церквей на всех тех местах и урочищах, с которыми соединялись древние религиозные представления населения – была в большом ходу в древней России, так напр., городище под Москвой в Кунцеве, называемое обыкновенно проклятым местом. Окрестные жители, как известно, и теперь еще питают к этому месту суеверное уважение и бросание в реку венков в семик производится именно против городища, хотя многим деревням приходится для этого идти несколько верст. На этом месте стояла некогда церковь, упраздненная по сведениям И.Е. Забелина в XVII столетии.
В настоящее время, когда оба эти проливы освящены присутствием церквей, место жительство водяных все-таки указывается около них. Ни сила православного креста, ни близость церкви не были в состоянии изгнать, по преданию живущего именно здесь, водяного; он только утратил часть своей силы, но все-таки остался и не убоялся креста. Это может объясняться отчасти консерватизмом народных представлений, отчасти и тем, что по понятиям водлозеров водяной и не особенно злой дух.
Он действительно подчас и утащит человека к себе, но в общем он не зол: мирно сидит он себе в своем проливе и редко без нужды вредит людям. Вид его определяется различно: по одним – он является совсем схожим с человеком; по другим – он похож на человека, лишь, как и лесовик, «почернее наших будет», третьи, наконец, рисуют его снабженным гусиными руками и ногами. Все эти представления сходны в одном – водяной старец. Объяснить то обстоятельство, что в то время как в других известных мне местах каждое озеро находится под управлением одного водяного или водяного царя – на Водлозере их два – я не решаюсь. Но в качестве предположения можно было бы объяснить это следующей причиной. Тут, на Водлозере столкнулись два племени или, быть может, два рода, быть может, еще до заселения края русскими.
За редкими исключениями все деревни на Водлозере носят финские названия, как и само озеро и вытекающая из него река Водла. Нет невероятного, что два племени или два рода, быть может, еще финские столкнулись здесь: одно, шедшее с севера к югу, другое, направляющееся с юга на север; причем каждое из этих племен имело свое святилище: одно в современном Пречистенском погосте, другое в современном Ильинском погосте. Быть может, что рода, из которых один был оттеснен другим дальше на север, или наоборот к югу, перенес свое святилище и обособил свой культ. Не вдаваясь в догадки, укажу лишь на то, что смутное предание о происходившей здесь на Водлозере борьбе сохранилось до сих пор среди водлозеров.
Как я указал уже выше, среди жителей сохранилось довольно ясное воспоминание о своем происхождении: одни называют себя потомками шведов (т. е. финляндцев), другие – русских насельников, третьи – Чуди. Сохранилось на ряду с этим и предание о панах, которые приходили к берегам Водлозера, причем у деревни Козна-наволок происходила большая битва с ними, и некоторые семьи считаются потомками панов; наконец, рассказывают, что один Каргопольский князь, отправившись за данью на Водлозеро из Повенца, приказал для проезда в лодках зимой пропешить лед, но, благодаря непогоде, потонул в озере со всей дружиною.
Как видно из этого у местных жителей лучше, чем во многих местностях России, сохранились воспоминания о прошлой их исторической жизни: в памяти их сохранились не только упомянутые воспоминания о своем происхождении и принадлежности, как данников к Каргопольскому княжению, но даже и воспоминания о сражениях и спорах, бывших в давнее время у жителей разных селений между собою. Эта-то живучесть воспоминаний об историческом прошлом и заставляет с большим доверием относиться к сохранившимся среди водлозеров преданиям о населявшей некогда берега и острова озера – Чуди, с которой предки их вели жестокую борьбу.
До сих пор показывают Кинг-остров, на котором, по преданию, были уничтожены остатки разбитой Чуди, спасшейся на этот остров; тут и легла вся Чудь.[262] Этот остров считается священным: он порос лесом и рубить этот лес считалось греховным и опасным, так как, если сама убитая Чудь и не вступится непосредственно за свои права, то она впоследствии так или иначе должна была отомстить оскорбившему ее святыню. Как ни украшено это предание о Чуди поэтическими арабесками, все-таки, за рядом вымыслов, мы можем заметить, что основанием этого рассказа послужило воспоминание о бывшей здесь некогда битве, и вероятно битве с народом мало знакомым с предками современных водлозеров, так как остальные воспоминания о битвах деревни с деревней или союза нескольких деревень с другим подобным же союзом ярко запечатлелись в памяти жителей.
Как бы то ни было оба водяные являются совершенно самостоятельными господами, каждый в своей части озера. Они то дружат друг с другом, то враждуют. В настоящее время оба водяные породнились. Вот как рассказывает об этом предание: у водяного ильинского была дочь; за ней сватались водяной пречистенский и водяной – владелец Кенозера, которое в ту отдаленную эпоху было соединено с Водлозером. Как пречистенский, так и кенозерский водяные часто навещали ильинского. Кенозерский водяной первый посватался и ему отказали. Посватался затем пречистенский водяной, и старик – Ильинский отдал за него свою дочь. Кенозерский рассердился, ушел к себе в озеро и, чтобы никогда не ходить больше в Водлозеро, засыпал большими каменьями дорогу; с тех пор Кенозеро не сообщается больше с Водлозером. Отправляя свою дочь к зятю, к пречистенскому погосту, ильинский водяной дал ей в приданое много золота и драгоценностей и, наконец, целый остров из своих владений послал вместе с дочерью в ее новое жилище. Этот остров лежал прежде недалеко от реки Илексы и, ведомый петухом, прибыл к деревне Большой Кул-Наволок, недалеко от которой он остановился. Вещий петух затем улетел, а остров стоит до сих пор и прозван в память того, что его привез петух, Петуньим островом.
Кстати заметить, что понятие о петухе, как о птице вещей, сохранилось у народа, на протяжении всего Пудожского уезда, довольно ясно. Он, между прочим, помещается в разряд птиц, есть которых грешно.
Что касается жертвоприношений водяному, то мне не удалось открыть их; но не безынтересен тот факт, что водлозеры, проезжая через проливы, в которых живут водяные, отвешивают глубокие поклоны водяному царю, снимая шапку. Большинство проезжает с суеверным страхом и радостно крестится, когда проезд совершился благополучно.
Но указывая и оттеняя, что водяной особенно чтится в тех местах, где жизнь жителя тесно связана с этой стихией, а культ лесовика, там, где подсечное хозяйство является главным подспорьем в жизни крестьянина, я отнюдь не хочу сказать, что культ водяного отсутствует у последней категории крестьян, а культ лесовика у крестьян первой категории. И то, и другое божество чтится повсеместно, но в разных степенях.
Так, на Водлозере, где развит особенно культ водяного, чтится и лесовик. Последнему, так же как и на озере Купецком приносят жертвоприношения в случае пропажи скота. Это понятно: водлозеры также занимаются хлебопашеством в лесах и до последнего времени оно являлось все-таки важным подспорьем в их хозяйстве. За несколько лет жители стали обращаться главным образом к рыболовству. Поэтому культ лесовика не исчез, но он отступил лишь на второй план; культ же водяного занимает первое место в верованиях крестьян, поэтому-то водяной пользуется меньшим почетом у жителей озера Купецкого, чем у водлозеров, и наоборот, водлозеры меньше почитают лесовика, чем обитатели Купецкого озера.
Лучшим подтверждением того, что даже на Купецком озере, где роль водяного низведена до minimum’a – воспоминание о водяном царе все-таки очень сильно, служит следующая молитва, которую читают всякий раз, когда берут воду для лечения ею больного.
«Бережок батюшка, водушка матушка, царь водяной и царица водяная с малыми детьми, с приходящими гостями, благословите воды взять не ради хитрости, не ради мудрости, но ради добра и здоровья рабу Божию». На Водлозере, где культ лесовика стоит сравнительно с озером Купецким очень низко, молитва, которую читают при черпании воды для больного, гласит так:
«Царь земной и царица земная и царь водяной и царь лесной, благословите водушки взять не ради хитрости, не ради мудрости, для добраго здоровья раба Божия». Обе эти молитвы важны, как доказательства того, что в общем божества у всех жителей уезда одинаковы, лишь степень поклонения каждого из них зависит от условий быта. Поэтому, хотя в молитве, читаемой на Купецком озере, и не поминается царь лесной, а в той, которая читается на Водлозере, он поминается, – все-таки культ водяного занимает главное место у водлозеров, а культ лесовика на Купецком озере. Приведенные выше слова молитвы интересны для нас еще тем, что здесь встречается упоминание о земном царе и земной царице. Понятие об этих двух божествах земли, об их деятельности и отношении к людям, у крестьян тех местностей по крайней мере, где эти молитвы записаны, нам не удалось открыть.



