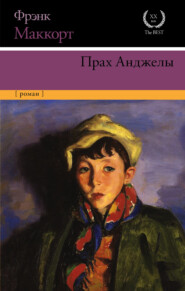
Полная версия:
Прах Анджелы
3
Девятина или новенна – традиционная католическая молитвенная практика, заключающаяся в чтении определенных молитв в течение девяти дней подряд.
4
ИРА – Ирландская республиканская партия – военизированная группировка, целью которой было достижение полной самостоятельности Ирландии от Великобритании.
5
Андерсонтаун – пригород Белфаста.
6
Популярная ирландская песня, написанная Джорджем Л. Гифером в 1898 году.
7
Герард Майелла (1729–1755) – итальянский монах из Ордена редемптористов.
8
«За дружбу старую» (англ. Should auld acquaintance be forgot) – шотландская песня на стихи Роберта Бернса, которая чаще всего поется в Новый год, сразу после полуночи.
9
От названия католической молитвы «Angelus Domini», которая читается три раза в день: утром, в обед и вечером. В католических церквях звонили Анжелюса, призывая верующих помолиться.
10
Строки из ирландской песни Томаса П. Кинана «Матери любовь благословенна».
11
Святой Викентий де Поль (1581–1660) – католический святой (27 сентября), основатель конгрегации лазаристов и общины дочерей милосердия. Покровитель госпиталей, заключенных, благотворительных организаций.
12
Пресвитерианство – одно из направлений протестантизма.
13
Мэйл (англ. male) – особь мужского пола.
14
Баптизм – одно из направлений протестантизма. Практикует крещение в сознательном возрасте через полное погружение в воду.
15
Кухулин – главный герой ирландского эпоса. Получил свое имя – «пес Кулана» – после того, как убил собаку могучего чародея-кузнеца Кулана и согласился исполнять у него обязанности собаки в течение семи лет, пока не подрастет замена погибшему существу.
16
Ольстер – одна из четырех исторических провинций Ирландии.
17
Строки из песни «Луиза», которую исполнял знаменитый французский шансонье и актер Морис Шевалье (1888–1972).
18
«Две возлюбленных» (англ. Two sweethearts) – ирландская народная версия песни «Две любви» (англ. Two loves), которую в 1900-х годах исполняла американская группа «Семья Картеров».
19
Руди Валле (1901–1986) – американский певец, саксофонист.
20
«Брат, подай хотя бы грош» (англ. «Brother, Can You Spare a Dime?») – одна из самых популярных песен времен Великой депрессии в США, которую в начале 1930-х годов исполнял американский певец и актер Бинг Кросби.
21
Родди Маккорли (казнен 28 февраля 1800 года) – ирландский революционер, член общества «Объединенные ирландцы», участник восстания 1798 года.
22
Ирландская народная песня «Старая добрая Ирландия» (известная также под названием «Ура, ирландские парни!») на слова политика и журналиста Тимоти Дэниела Салливана. Впервые опубликована в 1861 г..
23
«Красная ветвь» – орден, основанный в Ольстере до нашей эры.
24
Фении – ирландские мелкобуржуазные революционеры-республиканцы второй половины XIX – начала XX вв.
25
Кевин Барри (1902–1920) – 18-летний член ИРА, повешенный 1 ноября 1920 года за участие в вооруженном нападении и убийство в Дублине троих британских солдат.
26
Строки из баллады, написанной поэтессой и собирательницей фольклора Этной Карбери в 1890-х годах. Позже баллада была положена на музыку Пэтом Клэнси.
27
Строки из песни, написанной ирландским историком, писателем и собирателем фольклора Патриком Уэстоном Джойсом (1873).
28
«Когда ирландские глаза улыбаются» – популярная песня, созданная в 1912 году американским композитором Эрнестом Боллом на слова Джорджа Граффа-младшего и Чонси Олкотта.
29
Широко известная песня ирландских повстанцев, написанная вскоре после казни Кевина Барри в 1920 году. Автор слов неизвестен.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Полная версия книги
Всего 10 форматов

