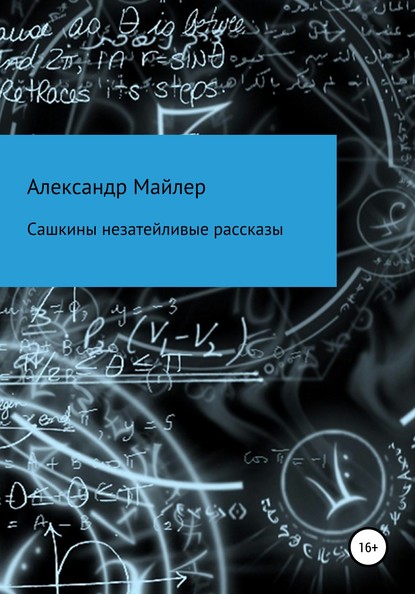 Полная версия
Полная версияСашкины незатейливые рассказы
В общем, Сашка решил, что, если бы он не столкнулся на распределении с тем хорошим человеком из Закавказья, вся его дальнейшая жизнь была бы жизнью другого человека, просто внешне похожего на Сашку.
Пересечение границ
После того как рухнул «железный занавес», друзья почти все отпуска с семьями проводили за рубежом. Это было очень интересно прежде всего потому, что такие поездки разрешили совсем недавно, и они все отдыхали, с интересом окунаясь на отдыхе в культуру и обычаи других стран.
Во время зарубежных поездок происходило немало смешных историй. Даже само пересечение границ иногда сопровождалось курьёзными эпизодами.
Однажды проходя пограничный контроль, Сашка предъявил свой паспорт, который женщина–пограничник внимательно изучала чуть дольше обычного. Затем она молча нажала какую–то кнопку и также молча передала Сашкин паспорт подошедшему к ней офицеру. Тот молча забрал паспорт и удалился. На все Сашкины вопросы, она ответила одним единственным словом «проверка» и молча уставилась в одну точку перед собой. Не прошло и нескольких минут, как офицер вернулся с Сашкиным паспортом, молча бросил его перед контролёршей, которая, поставив штамп в паспорте, сказала Сашке «проходите». Изумлённый Сашка радостно двинулся вперёд, но все–таки спросил, в чём же была проблема. Контролёрша, нисколько не торопясь, несмотря на длиннющую очередь людей, выстроившихся за Сашкой, ответила «фото немного сдвинуто, наверное, паспорт фальшивый, ну проходите, проходите».
При пересечении границ на въезде пограничники иногда задавали не очень ожидаемые вопросы. Был и такой случай. Участники очередной поездки на отдых, Сашкины друзья и члены их семей проходили по очереди пограничный контроль при въезде в Германию. Все прошли без единой задержки, настала очередь Вовы, который оказался последним в большой компании друзей. Пограничник, проверив паспорт, посмотрел на Вову и вдруг спросил «а у вас деньги есть?». Все конечно знали, что въезд в страну возможен при наличии определённой суммы в валюте, которая декларируется заранее при получении визы. Все знали также, что проверка наличия необходимых средств возможна и при пересечении границы, но это бывает не часто. Когда все, уже прошедшие пограничный контроль и ждавшие только Вову, услышали вопрос о деньгах, заданный только ему, разразился гомерический хохот. Ведь в то время Вова зарабатывал, пожалуй, побольше всех участников поездки, но о деньгах спросили только его. Вове пришлось предъявлять пачку наличных денег, а удивлённый пограничник конечно же не понял причину смеха Вовиных друзей.
Поездки за рубеж были не только летними, но и зимними. Собираясь большой компанией на зимний отдых в Финляндию, кто–то из организаторов поездки «догадался» купить билеты на самолёт на первое января с рейсом, вылетающим в десять утра. Много раз проходя через таможенный контроль в Шереметьево, ребята знали, что это малоприятная процедура, иногда сопровождающаяся дурацкими вопросами таможенников. На этот раз в непривычно полупустом аэропорту в зоне таможенного контроля сидел одинокий таможенник. Подойдя поближе, друзья убедились, что он совершенно пьян. Увидев в пустой таможенной зоне большую компанию отъезжающих, таможенник страшно обрадовался и заплетающимся языком сообщил им, что у них такая традиция – встречать новый год, несмотря ни на что. Широким жестом приглашая их к выходу в зону пограничного контроля, он, преодолевая проблемы дикции, говорил заплетающимся языком:
– Прхдите пожлст, прхдите пожлст.
Сашка, поняв, что тот еле сидит на стуле и даже не собирается ставить штамп на их таможенных декларациях, поправил съезжавшего со стула таможенника и напомнил ему о необходимости проштамповать бумаги.
– А, ну да, ну да, – пролепетал весёлый таможенник и, с огромным трудом справился с поставленной задачей, несколько раз шлёпнув пружинящий штемпель на любезно подсунутые Сашкой декларации.
Пятый пункт
В советское время в паспорте каждого гражданина имелся пункт под номером пять, где была написана его национальность. В Сашкиной жизни этот пункт сыграл решающую роль, определяющим образом влияя на Сашкино развитие во все периоды его жизни в Советском Союзе и в России. В самом раннем детства Сашке объяснили, что он не такой, как все, потому что он еврей. В пятилетнем возрасте он не понимал, что такое еврей, но чувствовал, что это слово означает что–то не очень хорошее. Задав вопрос на эту тему бабушке, которая его любила совершенно беззаветной и нежной любовью, Сашка не получил вразумительного ответа. Единственное, чего он добился от бабушки, это заверения, что евреи очень хорошие люди, а все те, которые говорят, что они плохие, сами очень плохие.
Сашка иногда чувствовал на себе бытовой антисемитизм при общении с мальчишками, гуляя во дворе, или в первых двух классах школы, где он спинным мозгом чувствовал неприязнь к себе его первой орденоносной учительницы. Когда он перешёл в третий класс другой школы, он сталкивался с этой проблемой на примере других мальчиков, которых по–детски оскорбляли и даже колотили только за то, что они принадлежали к этой «плохой» национальности. Сашкин одноклассник, Юрка, на лице которого было родимое пятно, как у последнего руководителя КПСС на лбу, и потому имевший кличку «краснопегий», добродушно объяснял Сашке, в чём разница между русскими и другими. Под другими Юрка дипломатично подразумевал евреев. Оказывалось, что все дело в фамилии. У русских фамилия должна оканчиваться на «ов» или, в крайнем случае на «ин».
– Ну вот, например, моя фамилия на что оканчивается? – спрашивал Юрка, возвращаясь вместе с Сашкой домой после школы, – правильно на «ов». А твоя на что оканчивается? Ну, теперь понял?
Сашкина родная старшая сестра, окончила школу с серебряной медалью. В то время теоретически это давало ей право поступать в любой ВУЗ без вступительных экзаменов. Многоопытный отец понимал, что иметь право в СССР не означало, что человек может реально воспользоваться этим правом. У отца был хороший знакомый, которому он существенно помог во время войны пережить в Москве ужас периода осени 1941 года. В тот момент, когда надо было решать, в какой институт Сашкина сестра будет поступать, этот хороший знакомый занимал очень высокий государственный пост. Посоветовавшись с дочерью и составив список приоритетных ВУЗов Москвы, отец пошёл на приём к своему хорошему знакомому. Тот принял его очень радушно, расчистив для дорогого посетителя большое окно во времени очень занятого и высокопоставленного государственного деятеля. Когда он узнал, в чём вопрос, он попросил помощника принести справочник для поступающих в ВУЗы и, раскрыв его сказал отцу: выбирай! Отец спросил, может ли рассматриваться МГУ, на что получил смущённый ответ: «ну ты же понимаешь, только не МГУ». На вопрос о других престижных в то время ВУЗах ответ был таким же «ну ты же понимаешь». В результате Сашкина сестра поступила в медицинский институт, потом стала доктором наук и работала в области медицинской генетики.
Сашка готовился к поступлению в институт очень серьёзно, поскольку в случае не поступления ему грозила армия, что расценивалось в то время почти, как тюрьма. В институт он поступил, по окончании пошёл работать в научно–исследовательский институт, женился и начал искать себя в жизни. Казалось бы, всё идёт как нельзя лучше, но Сашка, будучи перфекционистом, считал, что это не так. Он представлял себя большим учёным или большим начальником, успешным деятелем науки или культуры, или, в конце концов, общественным деятелем, короче, таким, каким мечтает стать двадцати с лишним лет юноша, стремящийся делать карьеру, строить семью и быть нужным всем, кто его окружает.
Сашка довольно быстро сориентировался в обстановке в НИИ, где он стал работать после института. Для него, получавшего оклад в размере ста рублей в месяц, просматривалось движение по карьерной лестнице, верхней ступенькой которой была должность заведующего сектором с окладом триста сорок рублей в месяц, что в то время было довольно много. И это при условии защиты кандидатской диссертации. Конечно, Сашка знал, что бывают другие пути построения успешной в материальном плане жизни. В то время начальники, занимающие высокие ответственные должности, слесари автосервисов и продавцы мясных отделов магазинов зарабатывали в разы больше, чем кандидаты наук. Но слесарить или рубить мясо Сашке категорически не хотелось, а стать большим начальником он не мог по определению. И этим определением был пятый пункт в его паспорте. Свой путь до предельно возможной для него должности длиной примерно в десять лет Сашка считал вполне реальным, но очень нудным, прежде всего из–за невозможности отклониться от него и, самое главное, невозможности преодолеть тот верхний должностной лимит из–за пятого пункта его паспорта. Да, были некоторые сферы деятельности в Советском Союзе, в которых «нехорошая» национальность не играла решающей роли, например музыка, академическая наука, особенно физика или математика, но Сашка был инженером.
В СССР началась иммиграция евреев в Израиль, которая проходила волнами, то усиливаясь, то утихая. В этом процессе в качестве посредника участвовали некоторые страны Западной Европы, где иммигрант мог изменить конечный пункт назначения и оказаться не в Израиле, а в США. Сашка знал об американской жизни по книжкам и фильмам и ему нравилась страна равных возможностей под предводительством дядюшки Сэма в звёздно–полосатом одеянии и с сигарой в крепких белых зубах. Но Сашка не мог и подумать об иммиграции серьёзно по одной простой причине – у него в семье рос маленький сын, которого он любил так сильно, что не мог даже на миг представить расставание с ним. Он был женат на совершенно русской женщине, брак с которой медленно, но неуклонно распадался по тысяче причин, поэтому совместная иммиграция всей семьёй была не возможна, а вариант оставить сына и уехать одному им даже не рассматривался.
Как и многие советские евреи, Сашка осознавал серьёзное внутреннее противоречие между его истинной внутренней культурой, насыщенной русскими писателями, художниками и артистами, общением с русскими людьми – с одной стороны, и формальной записью в его паспорте – с другой. В отличие от некоторых советских евреев, считавших себя внутренне детьми Земли Обетованной по культурным, религиозным или каким–либо иным соображениям, он чувствовал себя совершенно русским человеком, по совершенно дурацкой формальной причине принадлежащим к второсортной категории.
Сашка впрягся идти по тяжёлому намеченному пути к кандидатской диссертации. Путь был не прост по двум основным причинам. Во–первых, в той прикладной сфере, в которой работал Сашка, науки, как таковой, было мало, а инженерных решений много, но диссертация должна была включать именно научные процессы и результаты, которыми нужно было обильно декорировать инженерные решения. Во–вторых, сама цель в виде получения кандидатской степени представлялась ему мизерной, по сравнению с обуревающими его амбициями. Он часто задавал себе простой вопрос, не теряет ли он попросту время. Но поскольку никакой другой путь в его жизни реально не просматривался, он упорно продвигался к намеченной цели. По пути к этой цели Сашка успел развестись, вторично жениться и обзавестись очаровательной маленькой доченькой. Он встречался с сыном так часто, как мог, забирал его к себе в новую семью на выходные дни и брал его в отпускные поездки. Защита диссертации и новая должность заведующий сектором помогли вырваться из реальной нищеты, которая сопровождала его жизнь последние семь лет.
Потом случилась трагедия. Сашкин сын тяжко заболел, болезнь продолжалась около полугода, в течение которого Сашка забыл обо всём и проводил дни и ночи вместе с сыном в больнице. После смерти сына Сашка трудно и медленно восстанавливался психологически и физически. Помогли любящие жена, дочка и друзья.
Потом грянула перестройка. В стране появилась возможность заниматься частным бизнесом, в высших эшелонах власти появились люди так называемой «еврейской национальности». Страна изменилась до неузнаваемости. И все равно Сашка чувствовал себя человеком второго сорта. Казалось бы теперь, когда с государственным антисемитизмом было покончено навсегда, можно было, расправив плечи, строить счастливую жизнь с семьёй, друзьями и коллегами. Но это ощущение «не своего среди чужих» въелось в него намертво, по–видимому, на всю оставшуюся жизнь. Вместе с тем открылась и другая возможность. Теперь можно было иммигрировать практически в любую страну без придания остракизму в партийной организации, как это практиковалось в СССР.
Сашка нашёл консультационную фирму, которая составила на английском языке его профессиональное резюме, сопроводительное письмо с кратким изложением Сашкиного желания принести большую пользу американскому бизнесу, и разослала эти прекрасно выглядевшие документы в сто профильных американских компаний. Сашка принялся ждать ответ, и через месяц получил единственное ответное письмо с вежливой фразой благодарности за обращение в компанию. Консультанты, хорошо и профессионально составившие и разославшие необходимые документы, после получения гонорара за свою работу, охотно разъяснили Сашке, что его возраст уже не позволяет надеяться на трудоустройство в США.
Ну что ж, подумал Сашка, будем строить капитализм в России. И принялся строить. Он открыл кооператив в той области, в которой был профессионалом, и начал зарабатывать первые в своей жизни неплохие деньги. Они с женой, которая ему помогала во всех его начинаниях, часто вспоминали потом, курьёзный эпизод, когда Сашкина тёща спрашивала у своей дочери «что это он всё тебе новые сапоги покупает?». Она и не подозревала, что в коробке из–под сапог Сашка просто приносил деньги.
При всех успехах в бизнесе и в продвижении по службе в своём родном НИИ, где Сашка, неожиданно для самого себя и для всех окружающих, стал генеральным директором, он продолжал думать об иммиграции в США. Он прекрасно понимал, что сам там никому не нужен. Но у него выросла талантливая доченька, окончившая английскую спецшколу с золотой медалью, поступившая в Международный университет и умудрившаяся за четыре года учёбы в университете получить три диплома бакалавра: российский, французский и американский. Она устроилась на работу в американскую компанию по рабочей визе, получила вид на жительство, окончила престижнейший американский университет, получив диплом магистра.
Рождение внука в Калифорнии было для Сашки знаковым событием, во–первых, потому что это был его первый внук, а во–вторых, это подвигло его забросив все московские деловые и культурные соображения, броситься своей мечте навстречу и осуществить иммиграцию, которая им планировалась многие десятилетия.
По иронии судьбы впервые в своей жизни Сашка в окружении нового для него американского общества стал считаться русским. При этом он не чувствовал себя человеком второго сорта, потому что попал, как американцы сами называют, в плавильный котёл из более ста национальностей, где все себя чувствовали равными и абсолютно первосортными.



