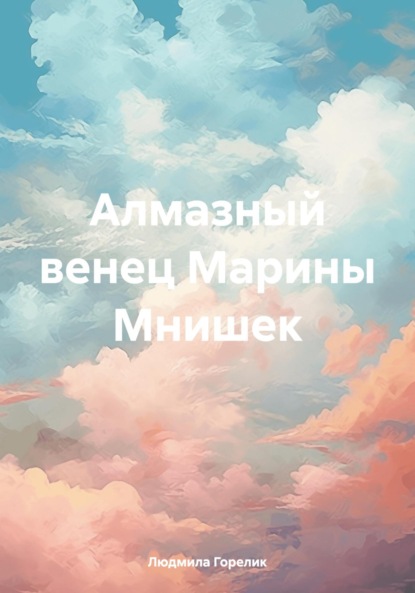
Полная версия:
Алмазный венец Марины Мнишек
– Ешь, Любаша, уже остыли! – бабушка ставит перед Любой тарелку с пончиками. Потом такую же тарелку придвигает дяде Косте, наливает обоим чай… Сама она все еще возится возле керосинки, вытирает тряпочкой брызги жира с клеенки, заливает водой кастрюльку – помыть…
Быстро проглотив пончики (варенье внутри горячее, прыскает… Дядя Костя смеется) и наскоро запив чаем, «москвичка» выскакивает на улицу.
Через два дома, возле Журавля (Журавель – так все зовут парикмахера Журавлева – высокого, худого, нескладного мужчину, отца двух сыновей и дочери) сложены бревна – хозяева задумали пристройку, – рядом уже почти выбранная куча песка: Журавель сам недавно обмазывал фундамент, песок необходим для цементного раствора.. На бревнах, стараясь проковырять босой ногой ямку в песке, сидит Лариска. Ногу она вытягивает изо всей силы, чтобы носок достигал песчаных остатков, спину в напряжении выгнула… Это все от скуки. Заметив Любашку, девочка тотчас прекращает свои ухищрения и бежит ей навстречу.
– Вышла?! Пойдем на бревнах посидим! Или, может, в «чижик» давай играть?
– Не-а, – машет головой Люба. – В «чижик» вдвоем неинтересно. Может, еще кто выйдет… Смотри, Азаренковым песок привезли!
– Тетя Варя говорила мамке, что будут сарай строить, – кивает Лора. – А привезли недавно, я видела. Самосвал выгрузил.
Песок возле Азаренковых свежий, но не сырой, сыпучий. Чистый пока. Как раз для «секретиков»! Люба достает из накладного кармана платьица свою железяку, ищет прозрачное стеклышко. Вот оно, возле забора валяется – хорошее, светлое… Лора тоже находит прозрачный осколок, она возится, с другой стороны кучи, чтоб Люба не видела. «Секретик» должен содержать неожиданность, для этого Люба срывает ромашку и, тщательно расправив лепестки, укладывает рядом с красивой железкой, сверху пристраивает прозрачное стекло, аккуратно присыпает песочком…
– Смотрите, они «секретики» делают! – раздается насмешливый голос у нее над ухом. Лора тоже поднимает голову. Увлеченные своими композициями девочки и не заметили, как подошла группа мальчишек. Это свои, с улицы: Витька Дурак, Витька Малой, Марселя, Леха Карасик, Петя Комнатный и Нервненький. Витька Дурак старше других, ему уже одиннадцать лет, а играет с маленькими, потому что у него замедленное развитие мозга, нарушение какое-то: ну, дурак, короче, и в спецшколе для дураков учится. Витьку Малого так зовут, чтобы от Дурака отличать, это обыкновенный восьмилетний мальчик, он с Лариской вместе в школу ходит, во второй класс перешли, а Марселя – его младший брат, ему только пять исполнилось. Леха Рыбкин, по прозвищу Карасик, на год младше Любы, тоже в школу еще не ходит. Его мама весной купила на этой улице дом – дядя Костя переделывает им печку. Нервненький приходит из переулка: родители снимают там комнату уже не первый год. Поначалу общение у него складывалось неудачно – ссорился с детьми, поэтому они его Нервненьким и прозвали, но в последнее время играют вместе мирно. На прозвище он не обижается – во всяком случае, не показывает вида: раз уж прилипло, все равно не переделать. Петя Комнатный – внук Филонихи, чей дом находится в конце переулка. Как и Люба, он живет с родителями где-то в другом месте, а на этой улице гостит у бабушки. «На улицу», то есть для игр с другими детьми, без взрослых, он выходит нечасто, больше дома сидит – поэтому так и прозвали.
Да, секретики! – отвечает Лариска. – Очень красивые! А вам посмотреть не дадим!
Начинается перепалка. Девочки немного кокетничают – спор затевают от скуки. С этими мальчишками, близкими соседями и практически ровесниками, они каждый день вместе играют на улице, и конечно, завершилось бы рассматриванием «секретиков», а потом совместной игрой в штандр или в чижика.
Но тут (как говорится в таких случаях, откуда ни возьмись!) на сцену является Шпэк.
Шпэка Любаша знает очень плохо – видела только один раз, издали. Она не училась в школе, куда ходили дети с этой улицы, и вообще здесь не все время была. Поэтому о Шпэке только слухи до нее доносились, да однажды Лора ей издали его показала. Сказала, что этого второгодника все в их классе боятся. Шпэка и на улице другие дети боялись. Он был только на год старше Лоры. Однако для своих лет очень крепкий, сильный. И самое главное – он был отпетый хулиган! К счастью, Шпэк жил на другой улице, туда нужно было идти через переулок и еще дальше в сторону края города, сюда он и не заходил почти никогда. Но в тот раз появился. Босые ноги пыль загребают. Старые штаны, драная, потерявшая цвет застиранная рубашка, босой, из-под копны нечесаных выгоревших на солнце волос, насмешливо смотрит на копошащихся в песке девочек.
– О чем спор? – остановился он возле детей. Он над всеми возвышался, Дураку почти вровень, а ведь Дураку уже одиннадцать. Одноклассники Шпэка – Лора и Витька Малой – испуганно встрепенулись. Лора не успела ответить, потому что вперед выдвинулся Малой.
– Девчонки «секретики» в песке делают, а показать не хотят! – нажаловался он.
Шпэк усмехнулся.
– Что за «секретики»?! Красивые? А мы сами посмотрим!
И ни минуты не раздумывая, он разметал грязной ступней песок – именно там, где Люба расположила «секретик»: в этом месте песок специально утрамбованный, так что найти было легко. Вот и ромашка, вот железка с камушками рядом… Шпэк победно поднял железку.
– Нашли из чего «секретик» делать, дуры! Из железяки ржавой!
И, прицелившись, запулил ее в сторону переулка. Отправленная его умелой рукой железяка долетела аж до чугунного рельса. Эта мощная рельсина была установлена здесь, на углу, в качестве ограждающего столба, чтоб при выезде из переулка грузовики забор Азаренковых не посшибали. Железяка ударилась о рельсину и отлетела в сторону, а Шпэк еще ромашку ногами потоптал.
– Дуры! – опять обозвал он девочек. И обернулся к мальчикам, ожидая поддержки.
Все молчали. Один Малой хихикнул, было, но сразу смолк. Шпэк презрительно сплюнул и пошел дальше – свернул в переулок и в сторону своей улицы направился. Люба так растерялась, что и не сразу заплакала. Лариса подбежала к ней, мальчики тоже подошли. Петя Комнатный и Дурак пошли к столбу – искать железку.
1606 год. В Москве. В Москву прибыли, когда уже месяц-май начинался.
– Все ж не так и плоха здешняя природа… – оглядывая зацветшую желтенькими цветками полянку, делилась Марина с придворной дамой. Караван делал последнюю остановку перед въездом в Москву. Будущей царице все хотелось найти в новом отечестве хоть что-нибудь хорошее. Дама соглашалась.
– Да, государыня, сейчас, когда нет распутицы и деревья начинают зеленеть, здешняя природа может понравиться, она порой даже не намного хуже польской!
Марина кивала с выражением печали и надежды.
Встретили их в Москве очень торжественно. Было заметно, что к встрече «государыни Марьи Юрьевны» тщательно готовились. При целовании руки «его царского величества» отцом Марины Юрием Мнишком государь расчувствовался, а во время приветственной речи нового родственника даже прослезился. Он чрезвычайно желал этого брака и сейчас переживал самые сильные чувства, поскольку это было осуществление мечты. В этом браке пожелания государственные и личные сплелись: во первых, новоявленный «царь Дмитрий Иоаннович» полагал, что после женитьбы на шляхтенке никто уже не посмеет сомневаться в законности его царского происхождения, во-вторых, он был действительно влюблен. Юная, хрупкая, аристократичная Марина пленила его с первого взгляда – давно, когда увидел ее в Самборе, в доме ее отца – шестнадцатилетнюю, с надменным и в то же время заинтересованным взглядом чуть прищуренных глаз, в парчовом платье и дорогом алмазном венце на поднятых по моде волосах. И теперь, когда он столько пережил, когда и впрямь взошел на престол – пусть неправедными, но такими трудными путями, она стала ему еще дороже, стала частью его завоеваний, его трона. Свершилось! Заносчивая польская аристократка ради него приехала сюда, в чуждую ей Москву. Уж теперь-то он и вправду царь – его признали, и не только в собственном государстве! Прекрасная юная Марина, которой он тогда, в Самборе под влиянием душевного порыва открыл свое настоящее происхождение, тем не менее, видит в нем царя. Он и сам уверовал в законность коронации: не кровь важна, а личные достоинства. Он, сын галичского дворянина Богдана Отрепьева, постриженный за непослушание и буйный нрав в монахи, образован, умен, хорошо воспитан… Разумеется, он имеет право на трон! Чем он хуже неправедно убиенного царевича? И уж конечно, он много лучше временщика Годунова – убийцы несчастного больного ребенка. Он и есть самый настоящий царь Дмитрий Иоаннович! Он победил всех врагов почти без помощи поляков – в разваливающемся, охваченном междоусобной бранью государстве увидели его силу, почувствовали его размах, уверенность в себе. За него встали казаки, жители приграничных окраин и прочие недовольные правлением Годунова. Теперь, с приездом Марины, для всех стало очевидно, что его признала Европа. Отныне он будет править свободно, не оглядываясь на чернь! В эти судьбоносные дни коронации, опьяненный любовью и триумфом, он растерял присущий ему ум и утратил осторожность.
Марина тоже чувствовала важность момента. Ее супругом станет царь. Это уже не тот странноватый, вызывающий насмешки многих москвитянин, который сумел чем-то (может быть, сочетанием робости и дерзости?) привлечь ее в Самборе. Ее муж – уверенный в себе, очень богатый и обладающий почти неограниченной властью мужчина. Он любит ее и готов ради нее на многое. В этой варварской стране Марине понадобится его любовь, она все более в этом убеждалась.
С точки зрения ее соотечественников она уже была супругой царя и царицей. Состоявшееся в Кракове зимой, перед отъездом Марины, торжество, где роль Дмитрия исполнял его посланец (боявшийся даже прикоснуться к руке царской невесты) была для поляков свадьбой. Коронация Марины в Москве должна была только подтвердить уже свершившееся. Московиты же видели в Краковской церемонии лишь обручение, предварительный сговор: чтобы стать настоящей царицей, дочь сандомирского воеводы по прибытии в Москву должна принять православную веру, обвенчаться с царем и пройти коронацию.
Дмитрий сделал все, чтобы принять невесту как можно лучше, однако до свадьбы ей было предписано жить у матери жениха, инокини Марфы Нагой – в монастыре. Мать убиенного царевича давно уже признала самозванца за сына, его невесту она окружила почти искренней любовью.
Надо сказать, ласка новоявленной свекрови мало смягчила общее впечатление: сама обстановка русского монастыря показалась Марине и ее фрейлинам неприглядной и даже страшной. Какая уж тут роскошь – и простого уюта не видела Марина в помещении, где провела первую неделю в Москве. Царственный ее муж, понимая, насколько тяжела для нее атмосфера монастыря, передал щедрые подарки, велел украсить кельи. Чтобы не мучить «царицу Марью Юрьевну» и ее придворных дам постной монастырской кухней, прислал им красивую посуду, а также польских поваров, которым вручил ключи от всех погребов и кладовых с припасами. Однако потемневшие от времени бревенчатые стены, обитые кое-где черным сукном, тусклый свет сквозь маленькие оконца изменить было нельзя. Марина пребывала в шоке: какая убогая обстановка, какое неудобство в православном монастыре! Отсталый народ, ненастоящая вера… Почему они упорствуют в ней? Ведь так очевидно, что она хуже истинной, римско-католической… Конечно, как и обещала воспитавшим ее монахам, она приложит все силы, чтобы помочь этому потерявшемуся народу перейти в католичество.
Уже будучи в Москве, она получила письмо от папы Павла V. Перечитала его два раза, сидя на непривычно-жесткой монастырской лавке возле дающего слабый свет крохотного окна и даже всплакнула – слеза упала на исписанную красивым почерком бумагу. Письмо было очень теплое, с напутствиями, пожеланиями. Папа напоминал об их предотъездном разговоре – о ее обещании оставаться хорошей католичкой и продвигать истинную веру в стране, которой она теперь владеет. Писал Павел V возвышенно и туманно, и только одно предложение отличалось твердой конкретностью – ради этого предложения и было написано письмо. Оно содержало ответ на важный вопрос о ходе церемонии вступления Марины в брак с царем Московии. В личном письме, направленном Папе ранее, Марина спрашивала главу Римско-католической церкви, можно ли ей перед бракосочетанием исповедоваться православному священнику и принять из его рук причастие – Московская епархия настаивает на этом. Вопрос разозлил Папу, ответ был отрицательным. «Долг твой, дочь моя, состоит не в уступках московскому разврату, не в потакании чужой ереси, а, напротив, в твердом руководстве заблудшими сими и в приведении твоих подданных к истинной вере».
Марина опустила руку с письмом на колени и тяжело вздохнула: на первых порах ей придется нелегко. Даже при поддержке мужа.
На взгляд новоявленного царя, проблема, вставшая перед его иноземной невестой, была проста, как пряник. Однако другие стороны так не думали. Дело в том, что церемония вступления в брак, по замыслу устроителей, совмещалась с церемониями принятия православия и посвящения новой царицы на царство. Московская Епархия действовала дипломатически, и требование перейти в новую веру не выдвигалось прямо, однако в ходе праздника Марина должна была исповедоваться православному священнику и принять от него причастие. Это был деликатный и тяжелый вопрос. В разговоре с Мариной жених подчеркивал важность исполнения этой «формальности» – таково требование православной церкви. Ему не удалось убедить Патриарха и других сановников православной церкви обойти некоторые правила. Сам-то он легко склонялся к компромиссу. Еще два года назад, будучи в Польше, он принял тайное католичество, чтобы заручиться поддержкой поляков и не иметь препятствия веры в обручении с Мариной. В Москве, разумеется, о его католичестве не знали, здесь он, будучи тайным католиком, по-прежнему проходил все православные обряды. Легко, без «этих предрассудков» он живо и не поддаваясь сомнениям, обходил конфессиональные проблемы, был уверен, что сможет лавировать столько, сколько понадобится. Этот получивший образование и не лишенный сердца молодой человек с юных лет владел многими умениями проходимца («вора», как тогда называли подобных ловких и весьма маневренных людей). Без этих умений он не прошел бы трудный путь от способного, но шалопутного, причиняющего много неприятностей родителям отрока Гришки из семьи галичских дворян Отрепьевых до «царя Дмитрия Иоанновича». И уж само собой, ложь, основополагающая способность любого вора, давалась ему чрезвычайно легко.
В данном случае, однако, компромисс зависел не от него. Гордая дочь Сандомирского воеводы Марина, на многое готовая ради Московского престола, в католической вере оказалась тверда и на предлагаемые женихом компромиссы (например, «для вида» принять православное причастие) без благословения Папы отказалась. Благословения Папы быть не могло: напротив, знавшая о тайном католичестве нового московского царя польская сторона ждала, что теперь, во время коронации, он откроет тайну и соотечественникам. «Царь Дмитрий Иоаннович», получив и здесь отказ, только вздохнул. Никто, никто не понимал его, никто не был готов поддержать временный компромисс. "Ничего, как-нибудь образуется…» – думал слегка расстроенный этой неувязкой, но по-прежнему счастливый жених.
Приготовления к венчанию и коронации шли своим ходом. За три дня до назначенных торжеств Успенский Собор был уже готов к ним. Оклады икон сияли золотом, серебром, драгоценными каменьями. Огромные рулоны самой лучшей парчи на красном сукне лежали пока в кладовой – в день коронации парчой будет устелена дорога к храму. Служащий при церкви столяр, Еремка Рукавицын, уже немолодой тридцатилетний мужик, совместно со своим подмастерьем Игнашкой Кожемякиным, заканчивал порученную ему работу по возведению приступочек перед иконами Владимирской Божьей Матери и митрополитов Петра и Ионы. Приступочки эти, или «колодочки», как назвал московский патриарх Игнатий, поясняя суть работы, призваны были физически облегчить для вступающей на трон царицы обряд миропомазания. Согласно Чину коронации невеста-иноземка должна была принять перед миропомазанием православное причастие. В данной ситуации оно приравнивалось к крещению хотя этот нюанс предпочитали не обсуждать: и без того вокруг процедуры возникли нежелательные споры. Однако здесь готовившие процедуру православные иерархи стояли твердо: без причастия, которое примут совместно царь и новоявленная царица, проводить Чин коронации они не станут. С царем-то сложностей не возникало, он разумеется, был согласен причаститься перед свадьбой (о принятии им католичества никто из православных церковников не подозревал), а вот невеста опечалилась. Православные иерархи иноземной печали как бы не заметили (ничего, привыкнет), к подготовке Чина отнеслись со всей ответственностью. Поскольку новобрачная была росту невысокого, Игнатий придумал изготовить на полу перед иконами не приметные для общего глаза «колодочки»: Марья Юрьевна встанет на них и приложится к иконам красиво, не поднимаясь на цыпочки и не вытягивая шею. А народ в церкви даже и не заметит, что царица на приступочки поднялась: пол и пол. Над этими-то «колодочками» и трудились теперь столяр Рукавицын с подмастерьем. Уже заканчивали – полировали, чтоб красиво вышло, чтоб не выделялись эти специально сделанные приступочки на общем фоне – как и было так.
– Дядя Ерема, – рассказывал Игнашка задумчиво, – А чванливы сильно эти паны, что с царицей прибыли… И на расправу скоры. Надысь Фомку Кирпатого за то, что не быстро посторонился, лях из свиты царициной дубинкой поколотил. У Фомки опосля того рука правая скурвилась, не выпрямляется, а одной работать-то несподручно – ежели так останется, что делать? Зашел к нему давеча: сидит плачет. Неужто за подаянием теперь ходить, говорит.
Столяр молча шлифовал дерево. Игнашка тоже другую «колодочку» шлифовал. Не дождавшись реакции, заговорил опять.
– А сказывают, что царица наша матушка Марья Юрьевна тоже не православной веры? – спросил он, любуюсь на свою работу. Колодочка стала гладенькой и точно того цвета, что пол в церкви; как всегда здесь стояла. – Врут, должно? –
Он оторвал взгляд от шлифуемой колодочки и поднял глаза на мастера. Тот тоже оторвался на миг от работы. Но взгляд не переменился, оставался суровым..
– Цыц, Игнашка! Не тебе о том рассуждать. Врут, а ты повторяешь… Для того и иконы – завтрева-то приложится к ним царица и нашу веру примет. Подай-ка мне ветошку помягче – Строго проговорил он, кивнув в сторону кучи инструментов и ветоши для полировки. И опять стал тщательно натирать дерево. – Вот сейчас-то, глядикось, отполируем, матушка наша Марья Юрьевна поднимется на приступочку, к иконам приложится и нашей веры станет, православной. А как еще?
1606 год. Большая свадьба и маленький обман.
И вот настало восьмое мая. Церемония, срежиссированная лично «Дмитрием Иоанновичем», отличалась большой торжественностью. После помпезного переноса в Успенский собор царской короны туда двинулась процессия приглашенных. По разостланной на дороге бархатной, затканной золотом парче шли знатные московские дворяне, потом царь (уже в короне) с царицей, одетой по-русски – в расшитое драгоценностями вишневое бархатное платье, а замыкали процессию знатные гости из Речи Посполитой.
Внутри собора не обошлось без суеты. Распорядители более всего боялись, как бы не произошло осквернение храма. И основания к такому страху имелись. Польский посол, например, гордо ходил по храму в мегерке с перьями. Распорядители поступили хитро: попросили у посла его головной убор, чтобы подержать – уж больно, мол, хороша шапочка, дотронуться бы… Пан самодовольно-презрительно снял мегерку, дал ее в руки этим дикарям. А те… быстро вынесли шапку из церкви. На возмущение посла отшучивались: «В церкви не студено, да и солнце не печет… Смотри – тут все без шапок. Вернем, как на двор выйдешь!». «Надули мы литву», – говорили они между собой, довольные этой придумкой.
Вообще стороны изначально плохо понимали друг друга. Православная служба показалась гостям невнятным, скучным и слишком длительным бормотанием. Миропомазание происходило по греческому обряду. И сам обряд, и следующая за ним коронация полякам были непонятны. Они вообще были убеждены, что Марина стала супругой московского царя и, следовательно, московской царицей еще зимой, после обручения в Кракове. Там была веселая польская свадьба. А тут так, формальное мероприятие для московитов… Они и вилкой-то пользоваться не умеют, а туда же – думают, что умные, обряды свои блюдут… «Но приходится пока с ними считаться!» – снисходительно усмехались гости.
Церемония была сложной и продолжительной, потому что включала в однодневное действо и обручение, и коронацию, и венчание. Предусматривались переходы из Успенского собора в Грановитую палату и обратно.
Мало кто из присутствующих внимательно и досконально отслеживал происходящее. Не только литовцы, но даже не все местные понимали смысл и порядок многочисленных составляющих трехэтапного торжества. Так, многие не заметили, что после венчания царь с царицей не подошли для принятия православного причастия с последующим целованием икон. По «Чину» царица Марья Юрьевна должна была приложиться к иконе Владимирской Богоматери, образам митрополитов Петра и Ионы, а затем получить причастие из рук московского патриарха. Для православных это символизировало бы ее приход к православию. Однако накануне Папа Римский отказал Марине даже в этом компромиссе – она не должна была принимать причастие из рук православного священника.
Ни царица, ни царь к иконам на миропомазание не подошли. Был исполнен только русский венчальный обряд.
Поляки на данном этапе были удалены из церкви, многие из них полагали, что причастие состоялось. Присутствующие московские гости, видя русское платье царицы и общую пышность церемонии, тоже думали, что все в порядке. Сильно опечалились только прекрасно разбирающиеся в тонкостях литургии православные иерархи.
Через три века историки будут отмечать, что ключевой ошибкой и толчком к последующим событиям стал отказ невесты-чужестранки от даже формального присоединения к православию. Марина, оставаясь верующей католичкой, не посмела нарушить запрет Папы Римского на принятие причастия из рук православных священников. Обряд коронации был не соблюден, смазан, наиважнейшую его часть пропустили… И обе стороны как бы не заметили этого. Привыкший к обманам Димитрий поддержал невесту, надеясь, что в суете никто ничего не поймет, что эта ложь, как и многие предшествующие, сойдет ему с рук. Поначалу так и казалось.
1606 год. Недельное торжество и катастрофа.
Его свадьба была не в указный день:
Да на вешний праздник Миколин день
Да бояра-то пошли ко заутрени,
Да Гришка с Маришкой в баину пошел;
Да бояра-то идут от заутрени,
Да и Гришка с Маришкой из баины иде…
(Историческая песня «Григорий Отрепьев»)
Торжества по случаю свадьбы продолжались в Москве еще более недели. Все это время Димитрий был очень счастлив. Самозванец не видел, как постепенно накалялась обстановка вокруг него.
Девятое мая, следующий после венчания день, пришелся на праздник Николы вешнего. Продолжать свадебные торжества в день святителя Николая было серьезным нарушением обычая, это воспринималось православными как кощунство. Свадьбы, да и вообще шумные гулянья, были в этот день запрещены. Однако уже с рассвета в Кремле гремели барабаны, играла музыка. Молодые сбросили русское платье – оно предназначалось лишь для коронации и венчания. Царь был теперь одет в любимый им гусарский костюм, а царица нарядилась в платье польского покроя – царь сам просил ее об этом: он пожелал, чтобы с этого дня Марина была одета по-польски – так, как она привыкла.
Супруг делал все, чтобы угодить молодой жене, но ее свита, включая отца новоявленной московской царицы, Юрия Мнишка, мало думала об интересах Марины, сложность положения шляхтенки ее соотечественниками не учитывалась. После венчания обострились ссоры между боярами и польской свитой царицы: поляки теперь потребовали еще большего уважения – в частности, при распределении мест за праздничным столом. У Лжедмитрия не получалось уравновесить интересы собственных бояр и гордых посланцев Речи Посполитой, а семнадцатилетняя Марина не могла ему в этом помочь. «Улица» тоже была недовольна. Пока что это было тихое осуждение: простые люди перешептывались, на Кремль, откуда доносилась музыка, кидали неодобрительные взгляды.
«Царь Дмитрий Иоаннович», однако, сохранял веселое расположение духа. Он упорно не верил своим приближенным, сообщавшим о стычках между приезжими и местными за пределами Кремля. А стычки уже вечером этого дня начались серьезные. Сопровождавшая царицу из Речи Посполитой огромная, более двух тысяч человек, свита после коронации совершенно освоилась в новых обстоятельствах. Дочь польского воеводы Марина теперь законная царица, полноправная властительница Москвы! Московские подданные в глазах поляков были невежественными, находящимися на более низкой ступени людьми, и после коронации это отношение стало открытым. К вечеру новые властители сильно напились и ударились даже в буйство. Возвращаясь после пира на свои квартиры, они рубили саблями встретившихся по дороге московитов, а жен знатных князей и бояр вытаскивали из карет, издевались над ними. И в последующие дни в городе то и дело вспыхивали бесчинства. Однако царь их не замечал, на донесения не реагировал. В Кремле было пока спокойно.

