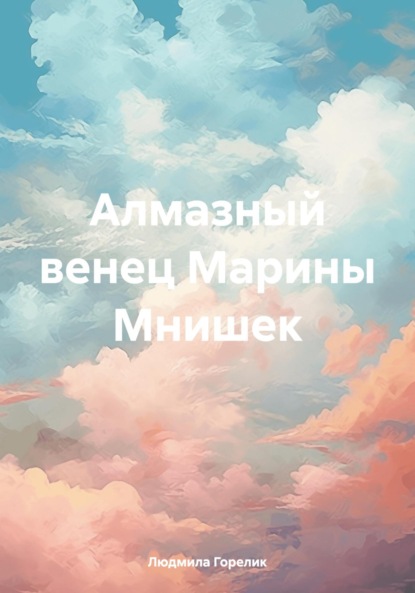
Полная версия:
Алмазный венец Марины Мнишек
Мощный удар мужского кулака снаружи разбил стекло. Марину подхватили, вытащили на улицу. Спаситель, не жалея себя, руками, гасил на Марине тлеющее платье. В свете пламени девушка увидела чужую, не польскую, одежду, светлые, стриженые по местному обычаю «горшком» волосы, выпачканное сажей и искаженное волнением лицо. Мальчишка какой-то. Совсем молодой, ее ровесник по виду, и, конечно, из местных, быстро, голыми руками, загасил ее тлеющий наряд. И уставился на нее, пораженный.
– Кто ты, красавица? – спросил он. – Ты, должно быть, из свиты матушки нашей царицы Марьи Юрьевны?
К горящему дому уже бежали люди, тащили воду в ведрах, гнали специальные подводы с наполненными водой бочками. Испуганные жолнеры искали и не находили Марину. Ей стало стыдно, ее гордость была оскорблена: она, царица, сидит на земле в обгоревшем, прожженном местами насквозь, платье, и какой-то смерд только что охлопывал ее всю руками, гася огонь. Не дай Бог, кто-то из свиты узнает… Вот что с ним теперь делать? Казнить? И тут же еще более устыдилась: он ее спас. Вон, руки у него не только стеклом изрезаны, но уже и волдырями покрываются … Сильный ожог. Она опять вспомнила обожженное лицо пахолика – сегодня б и ее огонь мог обезобразить, если б не смерд этот.
– Как тебя зовут? – спросила она, не отвечая.
Иван вопрос понял. В Смоленске со времен Витовта жили рядом с русскими и белорусы, и поляки, и литовцы. Еще во время детских игр Ваня усвоил от соседских ребятишек много польских слов – понимал разговорную речь и мог даже объясниться.
– Я Ивашка, Ванька то есть, – с готовностью ответил он.– В подмастерьях у гончара Федула Маркелыча.
– Я помолюсь за тебя! – снисходительно заявила Марина. – Руки лечи! На вот тебе, в награду! – И она, сняв с головы, протянула ему свой алмазный венец. –Это тебе! Иди с миром!
К ней уже бежали фрейлины и некоторые паны из свиты. Спохватились! Не дай бог увидят разговаривающей со смердом.
– Иди, иди, что стал?! – оглядываясь на них, торопливо говорила ,Марина подмастерью этому. И с осуждением добавила. – Неотесанный какой! В саже весь вывозился…
Он и пошел. Подарок спасенной им из огня важной пани за пазуху спрятал – держать больно было. В руках уже началась сильная боль, пузыри надувались, превращаясь в один огромный пузырь. «Эх, не смогу работать… Федул Маркелыч браниться будет, – думал он. – А где острога?» – вспомнил он вдруг. Он ведь на ночь глядя пошел щуку брать, с острогой. За Днепровскми воротами если выйти, да повыше по берегу пройти, иногда хорошие щуки попадались. Добираться пришлось через весь город – Ивашка в юго-западном посаде жил, где гончарные мастерские. Да не дошел – увидел сполохи в окне, спасать кинулся. «Ну, ладно, Бог с ней, с острогой, – решил Ванька. – Видно, на пожаре выронил. А красавица какая эта литовская дивчина! Важная – сразу видать…».
Он оглянулся и увидел, что спасенную им пани уже окружили ее соотечественники. А один военный отделился от всех и идет за ним. «Чего это он? Что нужно? Может, не так что-то сделал?» – испугался Ивашка и побежал. Пан тоже ускорил шаг, но потом отстал.
1986 год. Гибель Сергея.
Любина бабушка умерла в тысяча девятьсот семьдесят пятом году. Домик она оставила внучке, и после смерти бабушки Люба с мужем поселились в ее маленьком домике на окраине. Поженились они еще в семьдесят втором, но поначалу пришлось жить у Любиных родителей, в центре. Комната у молодых была отдельная, по тем временам неплохо, а все равно жизнью с родителями тяготились. Поэтому, когда Любина бабушка умерла, переехали в ее домик.
Покрасили его снаружи, внутри переклеили обои, большой ремонт не делали и жили так почти десять лет. После смерти Любиных родителей стали жить в их квартире, а домик на Краснофлотской сохранили, он превратился в дачу, туда переселялись на лето. Сергей даже решил отремонтировать его: не только покрасить, но и крышу перекрыть. Он многое умел сам.
Однако не успел. Однажды ночью, под утро, только светлеть начинало, Люба проснулась от какого-то движения на чердаке.
– Мыши, что ли? – спросила она мужа (он тоже проснулся). И обратилась к коту, который с ними спал. – Ты куда ж смотришь, Барсик?
Но Барсик, поначалу настороживший уши, потянулся и заснул снова (или сделал вид, что спит), а Сергей, напротив, начал вставать с кровати.
– На мышей не похоже. А похоже на человеческие шаги. Может, дети балуют… Пойду посмотрю, что там… – Не одеваясь, прямо в майке и трусах, только ноги сунул в сандалии, он вышел на крыльцо. А Люба перевернулась на другой бок, но спать не стала – ждала его возвращения.
Вход на чердак у них был с улицы. В деревянной чердачной стене имелась небольшая дверка, запирали ее висячим замком, а иногда и просто прикрывали – кому ж чужому чердак понадобится, тем более, не так просто туда подняться? Чтобы залезть, нужно было приставить лестницу. Лестница находилась недалеко, возле сарая. Летом ее не уносили из сада. Что ночью кто-то чужой будет по саду ходить, даже в голову не приходило.
Люба уже начинала дремать, как вдруг послышался грохот, за ним вскрик Сергея. Женщина вскочила с кровати, побежала к двери, едва накинув халат. Оля тоже проснулась, побежала за ней.
Лестница валялась возле дома, одна дощечка выбита от удара о яблоню…. Чердачная дверца распахнута… Какой-то стон или хрип слышался под деревом, он был страшнее всего. Люба пошла на этот стон. С неестественно вывернутой головой под яблоней, под сломанной лестницей, лежал Сергей.
2016 год. Лейтенант Демочкин проводит допрос.
Все это Люба вспомнила, сидя рядом с дочерью на лавочке недалеко от терапевтического корпуса Красного ,Креста. Когда отец погиб, Оле едва исполнилось шестнадцать. Сейчас дочка старше ее, тогдашней. «Бедная… – Лопухова взглянула на дочь с тревогой, – Пришлось ей вторично все переживать». Ольга, как будто читала ее мысли, откликнулась тотчас.
– Когда я пришла, там уже была полиция. Полицейский осматривал место происшествия. А Антона «скорая» увезла в Красный Крест. Наташи тоже не было, с ним поехала. А меня позже полицейский подвез на машине. – она помедлила, прежде чем добавить. – Антон в скорой и умер, в сознание не приходил. Все, как у папы.
Люба вздрогнула.
– А где Наташа?
– Наташа в терапевтическом. Ей сейчас капельницу ставят, успокоительную. А вообще она ничего, держится – не поняла еще. Смотри, полицейский идет, дождался тебя все же.
Полицейский в форме подходил к ним. «Молодой. Наверно, лейтенант», – подумала Люба. Она не разбиралась в знаках отличия.
– Здравствуйте! – обратился полицейский к Любе. – Любовь Львовна Лопухова, как я понимаю?
– Да, – кивнула она.
– Лейтенант Демочкин. Я уже побеседовал с вашей дочерью и внучкой, Вам тоже задам несколько вопросов.
Он присел на скамейку рядом с ней, достал из портфеля бумаги и стал записывать.
– Были ли у Вашего зятя, Антона Круглова, враги?
– Нет, – она покачала головой. – Насколько я знаю, нет. Он и не ходил никуда: на работу-домой, и все. Работает… то есть работал в мастерской по ремонту компьютеров. На службе у него все спокойно, неплохой коллектив. Откуда врагам взяться?
– Это ведь второй у него брак, с вашей внучкой?
– Второй. – Люба нахмурилась. – Если вы подозреваете его первую жену, то напрасно. Расстались они без обид. Детей не было, это главная причина, я думаю. Она уже тоже вторично замуж вышла.
– Но ведь и в этом браке у него не было детей.
Лопухова встрепенулась.
– Нет, не было. Так ведь они еще и двух лет не прожили… – на глаза ей навернулись слезы. – Молодой еще. И так нелепо.
– Я знаю, что и Ваш муж с этого же чердака упал при сходных обстоятельствах.
– Да. Но это случилось более тридцати лет назад. Милиция тогда пришла к выводу, что случайно в темноте оступился. Какой грабитель по чердаку ночью ходить станет?! Там только барахло всякое ненужное. А сейчас повторилось! Бывает же так…. Наташи еще на свете не было, когда ее дедушка погиб. Она всех обстоятельств не знает, потому и Антона отпустила. Зачем, зачем Антон полез на чердак ночью?! Если б я там была, я бы не позволила…
Чтобы скрыть вновь подступившие слезы, Любовь Львовна закрыла лицо руками. Оля, обойдя полицейского, села с ней рядом с другой стороны и обняла за плечи.
Демочкин молча начал складывать свои бумаги в портфель.
1606 год. Венец.
Ивашка в ту ночь и заснуть не смог – ожоги на руках пузырями пошли, потом пузыри лопаться стали. Он их обложил лопухами (весна была ранняя лопухи кое-где уже пробивались), нашел покрупнее, примотал тряпками, стало полегче. Подарок красавицы-полячки за образа положил в своей хибарке. Пошел второй месяц, как у него появилась эта хибарка возле гончарной мастерской. До того он жил с другими подмастерьями в общей комнате, а хибарку купил, когда решил жениться. Федул Маркелыч помог, дал взаймы денег.. А ночью лежал, думал: украшение-то это он Марфушке подарит, невесте своей. Она жила в ученицах в ткацкой мастерской, недалеко. Сирота, как и он. Иван туда уже и сватов посылал, сам Федул Маркелович тогда согласился пойти. Свадьба назначена через неделю.
К утру волдыри на руках полопались, раны большие образовались на обеих руках, кровоточат. Федул Маркелыч только головой покачал: «Где это ты так? Не царицыны ли хоромы тушил? Сказывают, вчера загоралось, да потушили, слава Богу, быстро… ». Ивашка правду ответил – мол, про царицу не знаю, это, видно, уж после было, а когда я шел, там загоралось у фрейлины ее, так я тушить помогал…
В городе, как и в посадах, нередко случались пожары, они не очень удивляли. Но все ж гончары вокруг Ивашки собрались, посочувствовали, что обжегся, посмеялись над ним («Кто ж руками тушит?! Надо было веткой сбивать…»). Иван отвечал, что, мол, не было веток рядом, а платье уже загорелось на ней… Федул Маркелыч позволил ему день этот не работать, только песку из подвала притащить для мастеров.
Тут вскоре и Марфутка прибежала – прослышала, кинулась к нему.
– Ваня, сказывают, ты на пожаре руки пожег, большие ли раны?
Осмотрела, лопухи велела выбросить, новые отыскала, обложила раны и чистыми тряпицами перевязала. А он ей в это время про пожар рассказывал – и украшение подаренное из-за иконы достал, показал ей.
– Это тебе, Марфутка, будет к свадьбе! – так он завершил рассказ.
У Марфы глаза загорелись: очень она любила, когда он про свадьбу напоминал. И подарок жениха понравился.
– Нет, – говорит, – Ваня, оно дорогое для меня слишком – медное, кажется! Смотри, какое красивое! А может, золотое?! – оба рассмеялись. Золото-то оно, может, и золото, но самоварное – медь так называют. Однако и то неплохо. Решили, что Марфушке пока будет украшение. На свадьбу наденет, а там посмотрят, что делать.
– Бери его, это твое. – сказал Ванька. – А после свадьбы, решим – спросим понимающих людей про цену его…
Ближе к вечеру того же дня случилось неожиданное. Ванька сидел в своей хибарке, репу пареную ел… «Прошлый год неплохой выдался – вишь, до весны хватило репы. Какой-то нынешний будет?» – размышлял. Вдруг дверь резко распахнулась от толчка ногой. В хибарку вошел лях: важный, в усах, жупан с разрезом, сапоги с подковами серебряными. Ванька узнал его – вроде, тот самый, что пошел за ним с пожара. От которого Ваньке вчера убежать удалось.
Поляк сразу заговорил повелительным тоном, Иван понял, что про украшение: звучало слово «венец», требовал ему отдать, катом называл. Развел обмотанными руками Ванька: мол, нету у меня, пан, а то б отдал… А сам думал, что про Марфутку ни за что не скажет, а то этот вельможа и до нее доберется… . Не сопротивлялся он и когда лях ударил его пару раз палицей, а потом в зубы дал кулаком. Утер кровь, что из носа пошла (тряпицы, которыми руки были обмотаны, все кровью пропитались).
– Нету у меня, ясновельможный пан, – бормотал Ванька, сидя на земляном полу хибары и утирая кровь. – Вчера ночью, как шел домой, лихие люди сразу за воротами остановили… Грабят нынче у нас, что делать, пан?… Они и отобрали… венец этот. Лихие люди у нас вольно стали жить, как смута началась, с тех самых пор разбойничают на дорогах сильно, да в посадах балуют, да и в город, бывает, заходят, за честным народом охотятся…
Понял лях или нет, но он оставил Ваньку и сам обыскал хибару. Особо и искать негде было. Пошарил за иконами, потом вовсе снял их. Там два рубля лоскут завернутые лежали, что Ванька на свадьбу собирал. Забрал их. Тряпье Ванькино с полатей расшвырял, в горшки возле печи заглянул, на пареную репу брезгливо поморщился. Пнул напоследок сапогом подкованным сидящего на полу, приткнувшись головой к лавке Ваньку прямо по больной руке (Ванька взвыл) и вышел.
2016 год. Появляется Потапов.
Вот уже и девятый день Антону отметили. Наташка все это время находилась при маме и бабушке. Однако, когда в себя пришла, заявила, что и в дальнейшем будет жить на даче, в том доме, где они жили с Антоном. Люба хотела продать тот дом – нехороший он, видно… Оля молчала, не возражала дочери. Ладно, пусть будет, как они хотят. Домик и впрямь может пригодиться. Наташке всего двадцать пять – пройдет время, уляжется боль об Антоне – еще кого-нибудь встретит, захочет отдельно жить. Да и Ольге сорок пять! Представление о возрасте у Любови Львовны с годами менялось. Когда ей самой было сорок пять, она считала, что это много, а теперь глядит на дочь, и та кажется ей молодой.
Полиция больше их не трогала: записали, как несчастный случай. «Да так и есть, конечно», – решили Лопуховы. И впрямь: кто ж его с чердака мог столкнуть? И зачем? На десятый день, однако, Любе позвонил Потапов. Женщина не удивилась, что он ее вспомнил и узнал ее телефон. Потапов был участковым милиционером, когда Сергей разбился. Он был въедливый, на улице его боялись, но и уважали. Обращались чаще всего по отчеству – Петрович,– потому что имя имел редкое и неудобопроизносимое – Порфирий. За глаза называли по фамилии, Потаповым. Он тогда еще молодой был, но опыт имел – сразу после армии пошел в милицию. Образования большого не получил, поэтому так и оставался участковым. Теперь пенсионер. Люба с ним, когда на улице встречается, каждый раз разговаривает. А тут домой позвонил и попросил о встрече – мол, надо поговорить.
Легко было догадаться, что речь пойдет об Антоне. Когда ее муж разбился, Потапов предположил преступление: по чердаку ходил злоумышленник, он и столкнул Сергея. Однако участковый – человек маленький, а следователь с ним не согласился – оступился, мол, мужчина и упал с хлипкой лестницы. Расследовать не стали. Теперь, после второго происшествия, Лопуховой не хотелось ворошить старые события, однако не посмела перечить Потапову: в свое время он имел славу на редкость въедливого, не равнодушного к проблемам подопечных участкового, все жители улицы его знали, к нему по всем вопросам можно было обратиться, и он решал. Люба его с той поры хорошо помнила.
Они встретились на проспекте Октябрьской революции, возле Мандаринового Гуся. Сели на лавку, и Потапов сразу перешел к делу.
– Любаша, – сказал он. – Ты, конечно, догадалась о чем я с тобой хочу говорить. Может, мне и не надо лезть. Но понимаешь, я тоже Сергея твоего забыть не могу. Хороший был мужик. И думаю, зря я тогда не настоял на расследовании. Многое указывало на преступление, а следователь… ему лишь бы отчитаться красиво да не работать при этом – время тем более такое было, что преступности много, расследовать не успевали.
Сказал и замолчал. А Люба заплакала.
– Петрович, – сказала она, – что ворошить? Ни Сергея, ни Антона не вернуть уже. А отчего погибли – какая разница?
Потапов нахмурил брови, лицо его приняло грозное выражение: продольные морщины от носа к подбородку и вдоль щек еще углубились, резче стали, глазки-буравчики засверкали. И Люба вспомнила, как боялись его нарушители дисциплины на вверенном ему участке.
– А вот тут ты, Любаша, полностью неправа!
Петрович был старше на шесть лет, он уже и в подростковые ее годы по улице участковым ходил… Да и начальник – так его все на улице воспринимали. Девочкой Люба его побаивалась, хотя никаких нарушений за ней не водилось. И сейчас она это чувство вспомнила: Потапов лучше знает, Потапов уж если скажет, так оно и есть, Потапов всегда на страже.
– Да я ничего, Петрович… – забормотала она. – просто ведь уже давно было…
Потапов мрачно кивнул.
– В том-то и дело. Понимаешь, если б тогда сразу случай с Сергеем расследовали до конца и преступника нашли, Антон сейчас жив был бы. Я себя виноватым чувствую – почему не настоял на расследовании. Может, конечно, случайность. Хотя ведь в одну точку снаряд случайно два раза не попадет. А у нас попал!
Он задумался, потом опять заговорил.
– И все ж, Люба, я хочу это дело понять. Я уже не служу, как ты знаешь. У меня и прав никаких нет на расследование, даже меньше, чем тогда, когда в участковых ходил. Тут от тебя тоже многое зависит.
Если скажешь «Уходи, Петрович, не надо следствия», я и уйду. Но я думаю, ты ведь тоже заинтересована узнать, что произошло с Антоном. Чтоб больше не повторилось такого. Может случиться, что и сам он упал, ну… мы тогда удостоверимся. Будем знать, что все проверили – сам упал, случайность такая трагическая. Однако я уже сказал: велика вероятность преступления. Преступник должен сидеть в тюрьме, а не по городу расхаживать, как он у нас тридцать лет, может быть, расхаживает! Я с этим никогда не смирюсь.
– Петрович… Какой же ты неугомонный! – Люба уже улыбалась сквозь слезы. «Может, и прав он? – думала она. – Когда Сережа упал, там лестницу мерили – она не так лежала бы, если б сама пошатнулась, слишком далеко была отброшена… Петрович еще тогда говорил…».
– Может, и впрямь воришка залез, а потом испугался и столкнул Сергея, – продолжила она уже вслух – Но почему ж второй раз? Если тот же самый это негодяй, старый он уже теперь по чердакам лазить… И чего ж было так долго ждать? – Она спрашивала, а Потапов молчал, только смотрел на нее печально острыми своими глазками. И этот острый взгляд убедил ее. – Ну, тебе лучше знать, Петрович! Я не против расследования. Что помню – все расскажу.
1606 год. Отъезд Марины из Смоленска.
Отъезжал свадебный поезд царицы Марьи Юрьевны из Смоленска еще более пышно, чем въезжал. Супруг прислал ей на этот последний отрезок пути необыкновенную, похожую более на дом карету, запряженную пятьюдесятью белыми в яблоках лошадьми. В карете сидел хорошенький маленький арапчонок и играл с обезьянкой. Чтобы царице не скучно было в пути. Кортеж царицы тоже снабдили новыми каретами и лошадьми. Словом, отъезжали пышно.
Проводить обоз пришли смоленские бояре и духовенство. Собрался и простой народ, остановился подале. Служилые люди еще далее оттеснили:
– Вон, вон, пошли отсюда! Здесь не вашего холопского ума дело!.
Федул, горшечных дел мастер, тоже в той толпе был: пришел поглядеть, и Ваньку, подмастерья своего, с собой взял. Стояли далеко. Хотя и на пригорке, а не все видно. Но кареты разглядели, пока ждали. Дивились и карете царской, и коням. Вот, наконец, выходить начали. Вначале смоленские бояре – вышли, в сторонке стали и ждут. Потом двинулась царицына свита. Эти к каретам пошли.
– Ишь, важные какие… – толкнул Ваньку в бок Федул Маркелыч. А Иван ниже голову пригнул. Он про того ляха, что шесть гривен покрал, не рассказывал никому. Тогда и про венец надо было говорить, а они с Марфой после того ляха решили, что это опасно. Значит, дорогая вещь, раз такой пан ищет. Может, и впрямь золото? Как бы худа не вышло: докажи потом, что подарили, а не украл… Лучше спрятать подале и помолчать пока.
Толпа зашелестела, покачнулась, зашумела… Будто волна, пошел по толпе ропот:
– Матушка! Марья Юрьевна! .
– Царица вышла!… – восторженно выдохнул Федул возле уха – Эх, плохо видно, не там стали!
Царица шла, опираясь на руку пожилого мужчины, в окружении фрейлин и вельмож. Была она роста невысокого, низкого даже, так что почти и не видать ее было за свитой – так, платье царское да головной убор мелькали. Ванька, как и все в этой толпе, из себя выпрыгивал, на цыпочки становился – не видать! Но вот прошли к каретам, стали расходиться. В кареты залазить. Царица отделилась от всех, только пан тот седой, толстый ее за руку вел – отец, что ли? Юрий этот? – да жолнеры позади сопровождали.
– Роста небольшого, однако осанистая, – одобрительно сказал Федул Маркелыч.
А Ваньке, вроде, знакомой она показалась: маленькая, дробненькая – легко было из окна тащить – она ж как пушинка была… Неужели это ее он из огня вытаскивал? Вот на ступеньку кареты шагнула (отец поддерживает ее за руку, а дверь-то большая, царице и пригибаться не надо – не карета, а дворец!)… Шагнув на ступеньку, она развернулась, повернула в сторону толпы лицо, а Ванька аж Федула Маркелыча плечом отодвинул – так вглядывался. Неужели она?! Похожа очень… Да разве разглядишь!
– Что вертишься?! Убери башку, мне из-за твоей башки не видно, – услышал он недовольный голос хозяина. Это его Федул на место поставил. Ванька пришел в себя, подвинулся, кланяться стал. Виноват, мол, прости, благодетель, уж больно поглядеть захотелось.
1956 год. «Секретик».
Летом Люба почти весь день «бегала по улице», так бабушка это называла. На улице с самого утра обычно был кто-нибудь из детей, там легко находилась компания для игр, лето проходило весело. Но в тот раз, вернувшись с молоком в бидончике и железкой в оттопыренном кармане девочка на улицу не спешила: уже при входе в дом, на крыльце пахло очень вкусно, бабушка жарила пончики. Что ходила девочка за молоком слишком долго, никто не заметил, не увидела бабушка и царапину на руке. И что карман ее платья оттопырен и оттуда торчит грязноватая железяка, бабушка не увидела: хлопотала озабоченно возле керосинки.
«Ведь у нее день рожденья! – вспомнила Люба. – Это пончики!». Каждый год на Казанскую, в день своего рожденья, бабушка жарила в холодном коридорчике на примусе пончики с клубничным вареньем. Этот коридор, а точнее, веранда, не отапливался, с комнаткой и кухней, из которых состоял бабушки домик, его соединяла дверь. Больше дверей в жилой части дома не имелось. Крохотная кухня-прихожая совмещались, а комната отделялась от них занавеской. Сейчас дверь в коридорчик была распахнута.
Когда Люба вошла в кухню, дядя Костя уже сидел на табуретке за столиком возле печки. Ждал пончиков, смотрел в коридорчик, где возилась бабушка, через открытую дверь.
Дядя Костя – бабушкин муж. Три года назад, когда Люба была еще маленькая, он переделывал в домике печку и остался жить. Первый бабушкин муж, Любин дед, погиб на войне. Домик бабушка строила после войны, в одиночестве. Домик – ее любовь и гордость. Мама говорит, что и за дядю Костю она ради домика вышла – печник и плотницкие работы знает, мастер на все руки, а домик постоянно подправлять нужно. Люба в эти дела не вникает, не задумывается вообще. Дядя Костя уже три года здесь живет. Плохо, что печник много моложе бабушки – на улице об этом судачат, даже до Любы доходит.
К уличным пересудам бабушка относилась презрительно: в ее памяти , да и в памяти некоторых соседей еще жил бабушкин довоенный облик – редкостной красавицы, сводившей с ума мужчин. «Бывало, только глянет на меня – и уж хоть на край света за мной пойдет!» – самодовольно рассказывала она внучке. Самоуверенности насчет женских своих чар бабушке не занимать и сейчас, когда шестидесятилетний рубеж позади. «Черт сивый!» – ругается она на дядю Костю, потому что у него вся голова седая. А у бабушки ни одного седого волоса! Если какой-нибудь появляется, она его выдергивает. И мажет виски «Восстановителем для волос». У нее волосы темные, гладкие, блестящие, на затылке свернуты в большой узел – и совершенно без седины. Пересуды «зачем Косте старуха», тем не менее, идут. В последнее время они усилились, потому что бабушка начала часто болеть. Перестала прихорашиваться, не до того ей. Любе каждый раз бывает неприятно, когда соседи ее расспрашивают – как там, что в доме, не ругаются ли бабушка с дядей Костей… Семилетняя девочка смутно чувствовала, что вопросы эти нехорошие, и научилась их обходить. Бабушке про них не рассказывала.
Ах, как вкусно пахнет сдобными пончиками! Бабушка их уже вынула из кастрюльки, положила в сито – пусть лишний жир стечет, пусть остынут немного – горячие! Люба нетерпеливо ерзает на табуретке: на улицу хочется. Но пончиков непременно надо дождаться – скоро придут гости, все съедят…
– Что, стрекоза?! – обращается к ней дядя Костя. – не терпится пончиков попробовать, москвичка? Погодить надо, – он кивает на открытую дверь в коридорчик. – Щас будут…
Дядя Костя почти никогда не называет Любу по имени, а «москвичкой» зовет часто – из-за кос. У Любы две уже хорошие толстенькие косички, и дядя Костя, когда в благодушном настроении (особенно в подпитии), цитирует при виде нее детское стихотворение: «У москвички две косички, / У узбечки двадцать пять…». Дальше он не помнит, но Любе и неинтересно: она уже умеет читать, и сама это стихотворение читала давно, когда маленькая была.

