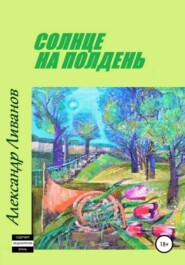
Полная версия:
Солнце на полдень
– Пожалуйста! Деньги твои у меня – целые… Но тебе ничего не будет? – тревожно вопрошала тетя Клава. Можно было подумать, что Леман, лишь пожелай он этого, мог у себя в кабинете приговорить меня к высшей мере как злейшего классового врага и самолично привести тут же приговор в исполнение.
– А на что тебе деньги? – уже взявшись за свой старомодный и кораблеподобный ридикюль, тревожно спросила тетя Клава. – Посмотри мне в глаза, ты не подведешь меня?
Я смотрю тете Клаве в глаза. Они большие, зеленоватые и усталые. Никогда этого раньше не замечал. Не знаю, что она увидела в моих, но ридикюль немедленно расстегивается, из него извлечен рубль. Настоящий советский рубль – со снопом ржи, с подписями Наркомфина и Казначея. Сверх того, ладонь тети Клавы свойски касается моих волос. «Обросли уже, пора подстригать вас»…
На деревянной лестнице с подгнившими пузатыми балясинами, перевесившись через перила, стоит Колька Муха. Он напевает песенку и не сразу замечает меня. Поет Колька Муха фальшиво, нарочито гнусавя, и в этой манере петь, равно как в самой песне, чувствуется полная мера презрения его к интернату, к Леману, ко всему человечеству. Эта был, конечно, репертуар жиганов, а кто из уркачей не подражает жиганам во всем, даже в выборе песен?
Мы лежим с тобой в маленьком гробике,Ты костями прижалась ко мне,И прилично обглоданный череп твойУлыбается ласково мне.Поцелуй ты меня, Перепетуя…Колька Муха прервал любовную песню на самом чувствительном месте. Так и не узнал я – согласилась ли Перепетуя поцеловать своего сожителя по маленькому гробику? Колька Муха эффектно сплюнул через зубы, любуясь дугой каждого улетающего плевка. Прищурился, о чем-то подумал. Тут лишь он заметил меня. Минорного настроения как не бывало. Усмехнулся, рот до ушей, пошел навстречу, напевая громко, сам себе дирижируя рукой. Это уже другая песня – это знаменитая «Мурка», самая любимая, заветная у всех уркачей. В песне этой зов несбывшегося, сокровеннейшая мечта блатной души. Да и сама Мурка, воровка-красавица, гордость малины – и вдруг пошла «работать в губчека»! Сложный, непостижимо изменчивый мир! «Мурку» поют под хмельком, размечтавшись о крупном фарте, поют, испытав вероломство друзей, одиночество и отчаянье. Поют на именинах, вечеринках, свадьбах, поют торговки и совслужащие, «фабзайцы» и отцы семейств, студенты и блатные, даже комсомольцы… Драматический лиризм ее проникновенен, и каждому по настроению говорит что-то свое. Нет новых песен, а новые, принято считать, лучше старых. Блатные удивлены популярностью своего «гимна».
Песня должна мне показать – какая пропасть разделяет нас, Кольку Муху и меня, его, жигана, и меня – мелкого и ничтожного фрайера. Песней этой Колька Муха подчеркивает меру отчуждения своего от меня, от детдома, от слюнявых речей воспитательниц, этих «глупых жлобих»…
Душераздирающая «Мурка», печальная жалоба на непрочность воровского счастья, между тем уже приближается к самой драматичной развязке. Красавица Мурка, надев кожанку и чекистский наган, – вкушает возмездие воровского мира:
Ты-ы зашухари-и-ла-а всю малину на-а-шу-у,А теперь ты пу-у-лю получа-а-ай…– Ну что? – презрительно спрашивает Колька Муха. Спрашивает как бы равнодушно, а у самого глаза бегают. Сразу видно, что вся бравада, и блатные песни, и дугами, полные брезгливости, плевки, все наигранное. – Ну что, вправил тебе мозги, хе-хе!
Какой подлый смешок! И этого человека я чуть было не счел своим другом! И все потому, что он любит слушать, когда рассказываю о Спартаке и других прочитанных книгах. Да еще за то, что даю ему уроки списывать. А главное, что из меня можно веревки вить – ведь я бесхарактерный, трус я…
– Вправил, – говорю, – и тебе еще больше вправит, будь спок! Так вправит, что и ши-ко-лад с турецкими биксами тебе не поможет. Посадит на твой шестик дюймовый гвоздь – сам станешь пушечкой. И не жиган ты, а мелкий жлоб! – вскипел я запоздалым негодованием.
– Значит, раскололся? Продал, лягаш? Ур-р-ва-ма-ма! А еще вместе корешевать думали! – обдает меня презрением Колька Муха. Он, видно, считает, что именно так должен вести себя жиган, прознав про измену товарища по малине. Колька Муха, однако, явно переигрывает! Он строит свирепые рожи, визжит, будто его тащат голого сквозь крапиву, он топочет ногами и даже скрипит зубами. Как он зол, как он ловко матерится!..
Странно, – я его ничуточки не боюсь. Рука вот болит, а то бы я с удовольствием посмотрел этот бесплатный спектакль. Не знал я, что Колька Муха такой артист!..
Я прохожу мимо. А что? Принесу завтра Леману ключ и все, все расскажу как было. И не потому, что – «за признание – половина наказания». Уже все равно наказан я. Пусть Леман знает, что сделал я это от тоски и одиночества. Я хотел иметь друга. Но все-все оказалось гадким… Пусть меня Леман не считает дураком по меньшей мере!.. Ведь с начала и до конца чувствовал я, что гадко… Но я думал, что этим, я плачу за дружбу… Я ошибся, я запутался… Я все скажу Леману!
* * *После отъезда дядьки Михайла я целый день ликовал. Леман, значит, не только не сбагрил меня, не выдворил из интерната, он еще оказался мужиком что надо! Не стал он мне мстить за погубленный ключ, за странную выходку с «пужанием жлобов». Более того, проверив, как я подмел полы, осведомившись у Фроси – исправно ли выскоблил котлы? – искоса глянул на меня и усмехнулся. Дескать, теперь – все на своем месте. И преступление и наказание. И, мол, наказывал меня не он, вот этот почти приязненно улыбающийся мне сейчас завдетдомом, а сама необходимость, которая выше нас, над нами, и мы ей подчинены – все-все, и я, рядовой и тишайший детдомовец, и он, с виду грозный завдетдомом. Над нами всеми он, как господь-бог: порядок! Или в женском обличье: дис-цип-лина!.. Острое, холодное, беспощадное – как бритва – слово…
Шибанов, маг всего Привоза, волшебник по части любой слесарной работы, за рубль вручил мне ключ, ничуть не хуже прежнего! Зато он был – само суровое воплощение кропотливого труда, чуждого пустых затей. Ключ был железным, а кольцо имел простое – никаких самоварных финтифлюшек старорежимных! Это был ключ-аскет. Суровый, со следами сизо-бурой окалины, с оплывами и медно-золотистыми разводами пайки он, по-моему, куда более соответствовал духу времени, чем тот, чисто медный, захватанный до лоска множеством рук, с кокетливыми, барскими украшениями. Не ключ, а какой-то позеленевший от времени калач крендебобером!
Я, разумеется, не решился поделиться этими мыслями с Леманом, о том, что новый ключ – похож на рабочего, равно как тот, старый, – на барина. Как знать, может, мысли эти вполне пришлись бы по душе нашему завдетдомом и герою Перекопа?.. Может, я упустил этот выпавший мне случай – стать любимчиком нашего завдетдомом?..
На некоторое время я почувствовал себя праведником. Совесть моя была чиста как стеклышко, ее не омрачали ни тяжесть грехов, ни муки раскаянья. Зато – с Колькой Масюковым разговор был у Лемана куда посерьезней моего!.. Как дамоклов меч на тонком волоске и острием нацеленный в самое темечко, повисло прямо над бездумной головой неудавшегося жигана последнее предупреждение. Чуть что повторится, Леман переведет его в Николаевскую колонию для малолетних преступников! Была ли в самом деле такая колония или нет, это доподлинно мне неизвестно. Не знали об этом и те ребята, которые были из Николаева, в посрамление бывшего губернского Херсона, возвышавшегося над ним как областной центр. Но мы верили в существование колонии. Нас пугали ею, как подкулачников – Соловками, вполне, впрочем, реальными…
* * *Мы, оказывается, живем как настоящие красноармейцы! Это сказал нам сам Леман. Как красноармейцы – это значит: хорошо! Он, конечно, имеет в виду красноармейцев в казарме сорок пятого стрелкового полка, что на Валах. Валы – развалины старой крепости, возведенной Суворовым против турок. Здесь те краснокирпичные казармы сорок пятого полка: на воротах большие – красные – звезды.
Леман знает что говорит. Мы по звонку встаем, по звонку ложимся, по звонку отправляемся в столовую. Чем не красноармейцы? И напрасно нам не выдали винтовки образца тысяча восемьсот девяносто первого года. А что? Мы бы тогда пели: «Солдатушки, бравы ребятушки, кто же ваши же-о-ны? Наши жены – ружья заряжены, вот кто наши же-о-ны!» Лихая песня. Когда-то – «будучи, не хуже, в плепорции» – мне напел ее отец. «Сквозь мглу годов бредут воспоминанья».
Женька Воробьев что-то такое прочитал в «Пионерской правде» про опыты академика Павлова с собачками. Все, что не касается музыки, не слишком волнует Женьку, нашего музыкального таланта. Прочитав про академика, собачек и звонок, Женька тут же окрестил нашего Панько «Академиком»! Что касается нас – никакие, мол, мы не красноармейцы, а щенки, готовые к принятию пищи по звонку! Вот каким злым, оказывается, может быть музыкант… Даже Колька Муха возмутился. У всех музыкантов, мол, душа на вате, не люди – бобровые воротники, все им – трали-вали!.. Не мозги у них – ноты!..
Где и когда наш неудачник ширмач имел обширное знакомство с музыкантами, чтоб сделать такой вывод, мы его не стали спрашивать. С ним только свяжись – сам рад не будешь. Он сперва начинает шипеть, потом рычать, наконец орать – так он доказывает нам, Фрайерам, свою правоту. Столько просыпет на нас матерщины, блатных словечек, ёрны, что хватило бы на целый академический словарь языка «фени»!.. Удивляет меня в людях нетерпимость к чужому мнению, страсть во всем доказывать свою правоту. Ведь они же не стараются немедленно обрядить на свой лад кого-то, если тот одет по-другому, по-своему, ведь они насильно никого не потчуют своими яствами, если кто-то привык к другим, к своим. А вот с мнениями – беда! Да что там – все человечество тут подчас мне напоминает Кольку Муху. И спорят, и ругаются, и язвят, и жалят – и даже войны затевают… Странная и непонятная щедрость во что бы то ни стало угощать – чуть ли не силой напитать – своими мыслишками и убежденьицами!
Я подумал над суждением ширмача. На мировых ристалищах истории, вплоть до баррикад рабочего класса, я находил юристов и медиков, поэтов и инженеров, но не нашел артистов и музыкантов! Так скудны были мои познания истории, или Женькина выходка все затмила в памяти, но артисты и музыканты (нет, не военные трубачи Первой конной!) мне вдруг представились сплошными аполитичными мещанами. Кто платит, тому играем. Какую изволите пьесу? Какую закажете музыку? Похоронную? Свадебную? Походную? Пожалуйста, деньги на бочку!.. Я уже не жалел, что у меня не было слуха, что медведь мне на ухо наступил…
Утром, когда Панько трезвонит в свой церковный колокол (он все собирается починить перегоревший электрический, все каких-то проводочков для обмотки ему не хватает), Женька вяло ворчит: «Хватит трезвонить, Академик! И так у нас рефлекс на естьбу-молотьбу – дай боже! Не хуже тех собачек!» Женька ворчит на первый звонок: подъем, заправка коек, умывание. Второй звонок – тот мы все ждем с нетерпением. Звонок на завтрак! И вправду, как собачки, вытягиваем мы шеи, поворачиваем головы в сторону коридора – откуда доносится звон нашего Глухаря, сторожа и даже Академика… Вожделенный второй звонок. «Хороша весть, когда кажуть есть», – растягивает в ухмылке рот Ваня Клименко. Он мастер говорить в рифму. Еще бы, он знает два языка, вернее, он смешал два языка, украинский и русский, смесь эту приспособил для таких же двуязычных рифмованных афоризмов… Рифмача мы, впрочем, зовем Почтариком. Он первый всегда знает все дела – и в мире, и особенно в детдоме. Как это ему удается – никто не ведает. Дарование! А откуда дарование – это еще больше никто не ведает. Это не смог бы разведать даже наш Почтарик. Ваня говорит, что он «целится на звонок – слухом, а на столовую – брюхом».
Колька Муха, наш Почтарик Ваня Клименко и их компашка оглоедов – почему-то они голоднее всех – те загодя жмутся к дверям. Чтоб по первому звуку паньковского колокола ринуться в столовую. Не попадайся им на пути – сметут как железный ураган! Проносятся по коридору, что стадо диких индийских слонов, потом со страшным топотом проносятся по лестнице. Она гудит, стонет и сотрясается под ними всеми своими литыми чугунными ступенями. Старорежимная лестница пережила и сам старый режим – такой был у нее запас прочности. В столовой, толкаясь и судорожно цепляясь за край скамеек, наши оглоеды стараются поскорей шлепнуться на места поближе к кухне, чтоб первые тарелки разносимого Фросей и Беллой Григорьевной супа достались им. Ну, не оглоеды ли?
Я и Женька – тоже поспешаем в столовую, но все же соблюдаем приличие и сдерживаем себя – насколько, конечно, позволяет нам чувство голода. Слабоватого ужина не хватает даже для сколь-нибудь впечатлительных снов. Мы, и я, и Женька, конечно, не носимся сломя голову: не хочется быть зачисленными в оглоеды. Но и мы не зеваем! Если не первые, то уж вторые тарелки железно нам достаются. И на еду накидываемся ничуть не хуже наших признанных оглоедов. Не проходит и двух минут – как наши тарелки чисты, можно не мыть… А хлеб еще раньше съеден до крошки. И сразу становится жалко, что не растянули удовольствие. Мы теперь завидуем девочкам, последними чинно рассаживающимися за столом. Даже вообще не верится, что только что перед нами стояла тарелка дымящегося супа, а рядом, вот здесь, лежала пайка, наша полфунтовка хлеба, самого вкусного и ароматного на свете черного хлеба! Эх, начать бы все сначала. Мы разочарованно и с недоумением, а главное, с острой завистью оглядываем тех, кто еще не управился с завтраком. Счастливчики!..
Мы с Женей Воробьевым даем себе каждый раз слово – не наваливаться так на еду, не быть оглоедами. Даем себе слово, но каждый раз забываем про него, как только видим перед собой еду. Потом, невесело усмехаясь, мы толкуем с Женькой об этой постыдной нашей слабости…
И в который раз уже мы с Женькой удивляемся нашим девочкам. Эти маленькие женщины – вечный живой укор нашей совести! Они не только не бегут сломя голову к столу, они иной раз заставляют лишний раз напоминать себе про завтрак! Занявшись охорашиванием своих кроваток или расчесыванием волос, они то и дело опаздывают к завтраку. Будто им вовсе есть неохота!.. Вот какие кривляки и притворщицы. И все они такие – от маленькой Люськи Одуванчика до длинноногой нашей Цапли Усти Шапарь. Глядеть на наших девочек – прямо умора. Цирк настоящий. Сядут за стол, ложки не хватают, на суп не накидываются, на соседние полфунтовки хлебушка не зырят (а вдруг там горбушка? или пайка вроде больше?). Они еще могут пробовать суп на вкус, морщиться, если непосоленный, и даже солят его! Надо же…
Над тарелкой девочки «не ложатся», сидят прямо, тащат ложку ко рту – не хлебают, как мы: раз-раз, и готово. И супа нет, и хлеб съеден. Как голые птенцы, только клюв знает, что делать…
Нет, что ни говори, женщины – это особые люди! Век живи, не поймешь их. И снова, и снова Белла Григорьевна ставит нам в пример девочек. Они, мол, терпеливы, они, мол, умеют вести себя за столом, они едят, а не накидываются на еду, как быдло. Но что удивительно, стоило как-то Леману напуститься на нас, поругать нас за это же нетерпение, она же, Белла Григорьевна, наша «военная косточка», за нас заступилась. «Не ругайте их! Они все же мужчины… – И потише, сделав Леману глазки и лукаво заигрывая: – Если б мужчины были такими же терпеливыми, как женщины, может, человеческий род кончился». Леман только зыркнул в сторону нашей воспитательницы; медленно стал краснеть, наконец, он хмыкнул и махнул рукой. Ну, мол, вас всех!.. Мне, мол, и без того забот хватает…
Да, девочки, наши маленькие женщины так и остаются загадкой для нас. Может, они не так голодны, как мы? Так нет же. Тарелки после них такие же чистые, как наши – ни одной крупинки, даже кусочка разваренной луковицы никто не оставляет. Ни крошечки хлеба не остается на столе. Хлеб они уносят с собой. Завернут в кусок газеты или в тетрадный лист – и с собой в школу. На большой перемене, когда мы шалеем оттого, что хочется есть, они не спеша, маленькими кусочками, поедают свой хлеб. Они лакомятся, а мы их тогда ненавидим, как злейших врагов! Мы стараемся не смотреть в их сторону, а то вовсе уходим во двор – играть в «чижика». А есть хочется так, что нас даже пошатывает, голова кружится и руки-ноги как ватные… Разве что наши оглоеды – те уставятся на хлеб девочек, смотрят, пока какая-нибудь из них не отщипнет им кусочек. Вот они какие, наши женщины, вечный укор нашей мужской совести. Для Кольки Мухи мы все либо «шкеты» и «фрайеры», либо «марухи» и «шмары», от воспитательниц же только и слышим: «мальчики!» и «девочки!». Нас не отличают – нас различают…
Однажды, когда я оттаскал за косы одну девчонку – чтоб не дразнилась! – Белла Григорьевна, конечно, приняла женскую сторону. Вообще мы, мальчики, во всем виноваты! Что-то такое насчет этой несправедливости я плел Белле Григорьевне. Мальчики заступались за меня. А Белла Григорьевна словно и не слышала. «Поймите, ребята, – изрекла она, – что хочет женщина, то хочет бог! В старину так говорили. Все тут правильно, кроме бога, которого, как вы знаете, нет. Вместо «бога» – скажем – «жизнь»! Кто не понял женщину – тот не понял жизнь»… А как ее поймешь? По какому учебнику?..
Вообще наша «военная косточка» хоть и не так многословна, как тетя Клава, но любит выражаться загадочно! Сказанет, а там как хочешь думай. Нет, не похожа она на Клавдию Петровну. Та, наоборот, кажется, больше всего боится остаться непонятой. И говорит, и объясняет, и объясняет, что объяснила… И еще обязательно спросит: «Ты все понял?» Еще бы не понять. Надо суметь не понять тетю Клаву! Не таит она неожиданности – может, поэтому мы ее не принимаем всерьез? Нам с нею легче, ей с нами – труднее. Вот она – вечная схватка характеров! Сплошной незримый цирк, французская борьба: кто кого?.. А я в этой борьбе и вовсе: «бесхарактерный». И еще – «не от мира сего». Это Леман сказал. А «брандахлыстами», «рохлями», «спит на ходу» – он и других величает…
Да, мы живем по звонку, как красноармейцы. Мало что в интернате, и в школе все по звонку. Целых двенадцать звонков! На занятия, на перемену. Но есть и в школе один звонок – излюбленный, желанный. Он, последний звонок, означает – конец занятий, возвращение в интернат – и обед! Никогда нас учителя не задерживают после этого звонка. Даже наша Мумия – математик. Несмотря на то, что мы, интернатские, по мнению всех учителей, надежда и украшение школы. Мы, мол, и дисциплинированней, и дружней, и чуть ли не умней. Будешь умней, когда за уроками следят воспитательницы. Попробуй не подготовить урок!.. Чувствуют наши учителя – с каким нетерпением мы ждем последнего звонка, означающего: обед! На, полуслове обрывают урок: ладно уж, мол, бегите. И мы бежим, штурмуем вешалку – и во двор! Резиновые подошвы наших казенных башмарей гулко шлепают по лобастым булыгам гранитных мостовых. Улицы, носящие имена великих – Белинского и Гоголя, – мелькают одна за другой. А вот и Рой-Гавардовская, она же – Красноармейская. Еще рывок, последний поворот…
Будто сговорились все учителя – они то и дело льстят нам, интернатским, действуют на самолюбие. Никогда не ругают, только укоряют и взывают к нашей сознательности детдомовцев. Подрались, – как же так? От детдомовцев этого не ждали! У доски хлопаешь ушами, опять – как же так? Весь детдом тянешь назад по успеваемости… Мы – избранные, мы некое «верхнее сословие». И все потому, что мы не «маменькины сынки», мы «самостоятельные люди». И в интернате – то же самое. Будто по каким-то тайным проводам сговорились наши учителя с нашими же воспитателями. Взять, скажем, Мумию – математика. Чем он пристрастил Кольку Муху к своему предмету? Угрозами пожаловаться завдетдомом? Неудами в журнале? Ничуть не бывало. Раскусил он нашего неудавшегося жигана, как хорошую «задачку с перцем» решил. Все распалял он самолюбие Кольки Мухи. Мало что детдомовец, так еще дитя улицы! И даже по-французски: «гаммен»!
– Как же так – ви, дитя улицы, и не знаете математику! Говорят, ваш брат хитрее самого черта! Гвоздиком самый секретней сейф откроет, ви деньги под землей увидите и умыкнете! Сквозь щель пройдете и не оцарапаетесь! Смекалка – ваша мать-кормилица. Так, что ли? Посадить бы на ваше место Гавроша! Он бы небось всех отличников переплюнул! – кривит свои тонкие и сухие губы наш математик.
Колька Муха, порозовев, только кивает при этом головой. Ему лестно слышать такое, он оглядывается в нашу сторону: видите, даже Мумия знает ему цену! С Гаврошем сравнил. И, набычившись, Колька Муха не мешает нашему математику славословить смекалку и изобретательность всемогущих детей улицы. Время от времени лишь Колька Муха иронично ухмыляется поверхностности суждений этого фрайера в облике учителя математики!.. А Сурен Георгиевич, облизывая сухие губы, говорит с присвистом, продолжает обдумчивую свою беседу с Колькой Мухой, будто уверенно решает задачу по отработанному приему: методом подстановки или взаимного сокращения. Колька Муха задачка с одним неизвестным: Мумия ее решает.
– И почему ви не умеете решать задачи? Ви же смекалистый человек! А задачи – что требуют? Да ту же, самую смекалку! И как же ви не подумали об этом?
Колька Муха, наш скромный и неудавшийся жиган с Привоза, видно, и впрямь не подумал об этом. Он, чувствуется, потрясен неожиданной связью между столь разными, как ему казалось, вещами: своим высоким ремеслом щирмача и нудятиной-математикой! И перед тонкогубым, и маленьким, как щелка, охраняемым клювастым носом – ртом математика Колька Муха чувствует себя как кролик перед разверстой и неотвратимой пастью удава.
– А сам он, Мумия – был смекалистым уркой, что ли, прежде чем стал математиком? – толкает меня локтем Женька Воробьев. Странные фантазии у музыкантов!..
– Ви вникните в слово: за-да-ча! По-другому – значит: хитрость! И эту хитрость – нужно разгадать. Разгадал – решил! В каждой задачке своя хитрость. Как у того сейфа свой секрет. Как это у вас говорится – ловкость рук, и никакого мошенства?.. Но поверьте мне, руки там ловкие, где голова не глупая. У человека должна быть ловкая – умная голова! Как это у вас: баш-ка!.. И тогда уже его на воровство не потянет. Поинтересней найдет дело…
Нам было удивительно видеть, что Колька Муха, с которого иной раз капли пота падали от таких разговоров, все это терпел и слушал. А однажды он нас и вовсе удивил. Он уселся рядом с математиком за учительским столом и не пошел на двор играть в «чижика», хотя была большая перемена. Мы теряли хорошего игрока! Ловко Коля Муха умел выручать! Беспромашно лупанет по мячику – хоть дощечкой, хоть простой палкой. Сколько раз мячик перемахивал через забор школьного двора! Прямо на мостовую – под ноги медлительных, солидных битюгов, тянущих груженый шарабан артели «Гужтранса», или под быстрые и тонкие колеса лакированных, легких, как ласточки, бричек, фаэтонов и пролеток, спешащих навстречу закату звонкоголосого и предприимчивого извозчичьего мира.
– Вы видите? Здесь закрыты скобки. Так что ж он хочет? Он конечно же хочет, чтоб ви их открыли! Все-все на хитрости! Потому что знак меняется на обратный, все взаимно сокращается, и из всей длинной задачки остается – что? – круглый нуль. Как в ответе!.. Они, Шапошников и Вальцев, хитрые, а ми с вами, Масюков, похитрее! Всего-то скобочки открыли. Как секретный сейф гвоздиком… Вот так, прежде чем решать задачку, ищите – в чем тут ее хитрость. И перехитрите ее!.. Ви детдомовец, ви бившее дитя улицы, ви сможете!..
Мы заглядываем в класс – Колька Муха только отмахивается от нас. Мы ему мешаем! Он с головой ушел в задачник Шапошникова и Вальцева, в жирный и тощий шрифт. Он чувствует себя могущественным графом Монте-Кристо, страшным хитрованом, отпирателем секретнейших сейфов с картами мировых сражений и банковских шкафов, полных драгоценностей… Иначе как понять рождение еще одного математика-фанатика?
Да, видать, уж так водится на свете. Если кто-то обрел, другой потерял. Потеряли мы, обрел наш Мумия… От «чижика» и прочих игр на переменках Колька Муха самоустранился раз и навсегда!
А за меня взялась наша Дойч, наша Марья Степановна. Чего захотела: чтоб у меня всегда были чистые руки, чтоб пальцы мои всегда были нечернильными… Уже пущены в ход «детдомовец» и «самостоятельный человек», и даже «не маменькин сынок». Но, видно, приемы не всегда сами по себе срабатывают. Нужно тут потрудиться душой, явить нешаблон, творческое дарование. Приемы Марьи Степановны, нашей Дойч не срабатывают. Пальцы у меня, как прежде, в чернилах. Марья Степановна брезгливо морщится, глядя на эти мои пальцы, ей нехорошо, вот-вот ее стошнит! Она поднимает передо мной свои пухлые и бледные ладошки. Белыми ниточками в морщиночках, в линии жизни и любви, пролегли следы от мела.
– Вот! Я тоже писала чернилами! Вам отметки ставила в журнал! А хоть одно чернильное пятнышко видишь?
– Вижу, – говорю я и вполне серьезно принимаюсь осматривать пальцы нашей Дойч. Я даже норовлю дерзко коснуться их своими – чернильными – пальцами. Особенно занимает меня – ее, такая невезучая, линия любви. Все мы в школе знаем, что Марья Степановна и химичка Ирина Сергеевна, обе влюблены в физика и инженера Ивана Матвеевича. И если Ирина Сергеевна еще борется и надеется, Марья Степановна только замкнулась, уязвленная в своей женской гордости и безнадежности.

