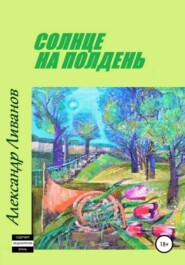
Полная версия:
Солнце на полдень
Чудной это был старик, с непонятным для нас характером, жадный на дело – и малоречивый. Леман никогда с ним не связывался. Бывало, в холодную пору Фрося вспомнит про Панько, вынесет ему печеную картошку или кусок лепешки – в ожидании обеда. Царственным жестом, не глядя ни на угощение, ни на угощающую, Панько отклонял приношение. Разве только Клавдии Петровне иной раз уступал. Единственный человек, который без всякого усилия, казалось, добился расположения нашего сторожа! Это было непонятно, и только один раз я спросил об этом нашу воспитательницу. «Мы давние-давние знакомые!» – только и сказала тетя Клава, загадочно усмехнувшись. Ясно, кто-то кого-то и привел сюда, к Леману.
И все же как-то мне была рассказана, эта давняя-давняя история. Ей и вправду было немало лет, даже десятилетий. Все было похоже на сказку, в которой маленькая девочка в кружевных панталончиках заблудилась в дремучем лесу, а ее случайно нашел добрый молодец, который, впрочем, сначала был принят за обычного – из тех же сказок – разбойника. Девочка в кружевных панталончиках отбилась от старших детей, плакала навзрыд и на вопрос доброго молодца или разбойника: «Ты девочка из барского дома?» – очень старательно, обиженно надув губки, вертела головой: «Нэ-э! Я из поповского дома!»
Хоть время было давнее, но все это было время, когда мужики сжигали бар, забирая их землю, и даже маленькая девочка поэтому, чувствовала, что быть из «барского дома» и некрасиво, и опасно. Бывшие хозяева жизни все больше утрачивали уверенность в себе.
«Я помню, что очень занятно доказывала Панько, что я «не панычка, а попова дочка». Так верхом, на плечах Панько, изображавшего для меня «лосадку», я и вернулась тогда в отчий дом», – и впрямь как сказку рассказывала эту историю детства тетя Клава. Были тут, разумеется, трогательные для детской памяти подробности, про землянику например, которую Панько подбирал на зеленых косогорах, приседая и не перестав быть «лосадкой», про то, что девочка ручками вцепилась в темный чуб «доброго разбойника», воображая, что это грива вороного коня, но эти подробности уже мне казались неинтересными, хотя у тети Клавы блестели глаза и зарделись щеки от рассказа.
И вот этого человека мне предлагал обидеть Коляба! Душа моя металась между все слабеющими доводами рассудка и все больше подчиняющей его страстью. Пушечка завладела моим воображением, сияя на солнце бронзовыми колесами; она выплывала из окутывающего облака дыма, – дыма сражений! Все мальчишки, даже такой, значит, из тихих, как я, обожают романтику сражений, все мечтают о героизме на поле боя, где неприятель обязательно оказывается разбитым, бегущим, побежденным, а то и вовсе трусом. Бей, руби, коли!.. Славное, знать, дело война!..
– Главное, не перепутать ключи! Нужен самый большой, медный! Он отдельно висит на гвозде!.. Ты увидишь, гребень у него… ну как на кране бабкиного самовара. С финтифлюшками, – зловеще шепчет Колька Муха. – Смотри мне! А то попрешься прямо, без сообразиловки, как на буфет с халвой-колбасой… Давай хиляй!.. А я буду в ворота стучать…
– Может, Коляба, одолжить или попросить этот ключ? – смутно понадеялся я на миролюбивый исход для нашего соблазна.
– Эх, ур-р-ва-мама! Так он тебе одолжит! Рассуждаешь, как фрайер! Хиляй – и муть не носи.
Колька Муха обожал язык фени и всячески показывал, что он был и остался дитятей улицы, блатным; он говорил нам чуть ли не каждый день, что все равно убежит к своим корешам, которые без него, мол, жить не могут; что задумана настоящая малина, после которой все кореша фартово примодятся и подадутся на корабле в город Стамбул… «Башлей полные карманы – и житуха жиганская!»
Нам верилось и не верилось про корабль и Турцию, но что Кольке Мухе наша размеренная жизнь из трехразового питания, еженедельной бани, школьных домашних заданий, главным образом задачек с «жирным» и «тощим» шрифтом, – была не по душе, сомневаться не приходилось. Мы все жаждали необыденного, не смысля, в чем оно доподлинно заключается, не различая в нем границ добра и зла, – грустное счастье детского неведения. Все, что выходило из рамок будничного, все было романтикой! Она жила в наших душах неосознанная, безымянная, подстегиваемая неизбывной грустью безотцовщины и бездомности. Жидкий пшенный суп, сдобренный поджаренным луком, и две-три ложки магаровой каши, забота и наставления Лемана и Клавдии Петровны все еще не смогли заменить нам родной дом и умерших или покинувших нас родителей, а обилие школьных заданий не способно было заглушить вечный зов неизведанного.
Ветер выл уныло и протяжно, точно великан с днепровского берега дул на город в очень длинную-длинную трубу. А дождь все шел и шел, стегал потоками воды чахлые акации и липки по углам двора, и казалось, что мир теперь обречен вечно мокнуть под этими потоками воды, укрываться этим мрачным беспросветным небом, и не будет уже никогда ни солнца, ни погожего дня. Кривые каменные стены двора, давняя полустершаяся надпись – черное с желтым, на высокой противоположной стене, под самую крышу, с язвами оголившегося под штукатуркой кирпича – о каком-то акционерном товариществе, тянувший с Днепра ветер с обрывками пароходных гудков, – все навевало неуют, и нужно было что-то сделать необычное, чтоб самому не завыть от тоски.
Панько так и не понял, то ли и впрямь стучали в ворота, то ли ему почудилось. Прошуршав полами извозчичьего брезентового дождевика, в котором наш сторож похож чем-то на рыцаря-крестоносца (может, из-за поднятого капюшона), он оставил будку – свою крепость, храм и святилище. Сердце замерло, но я быстро хватаю ключ. Сую за ворот рубашки – он холодный и тяжелый. Он – крест мой…
Никто из нас не мог бы похвастать, что побывал в этой будке. Тут Панько хранил свои несметные сокровища: лопаты и топоры, напильники и обломки точильных камней, ломы и веревки, фонарь «летучая мышь» и тачку. Черным удавом уходила – от печки к потолку – черно-рыжеватая жестяная труба. Отлучаясь, Панько будку запирал. Вот разве не делал этого, когда стучали в ворота; чтоб отодвинуть тяжелый засов калитки, требовалось не больше минутки. Старинные железные ворота открывал он только возу. Створки разъезжались со зловещим скрипом и скрежетом длинных, клепаных петель, – точно у средневекового замка из какого-нибудь романа Вальтера Скотта. Края створок – внизу и в середине – катились своими роликами по врытым в землю железным дугам…
Я выглядываю из-за пристройки к нашей кухне. Ничего не заметил Панько! Колька уже успел перелезть через забор. Он идет, не оглядывается. По мне, видать, понял: все в порядке. Всем видом своим Колька показывает мне, какая мне оказана честь быть его напарником, показывает мне, что сам по себе я ничего не стоил бы!.. Впрочем, где мы возьмем порох для нашей пушечки?..
– Во!.. Тя-желый!.. – из-под рубашки достаю я ключ и отдаю Кольке. О чем это задумался уркач? Ни суеты, ни страха в нем. Не зря Колька обижается и дерется, когда его называют ширмачом. Он знает себе цену, он способен на большее, чем вытащить чужой кошелек. И дабы я убедился, насколько пустяшное для него дело украсть ключ, Колька сплевывает эффектно сквозь зубы: цы-ы-к! И еще раз – чтобы видел я, как далеко при этом отлетает плевок. Вид у Кольки даже немного разочарованный и скучающий. Что там ключ! Он еще и не на такое способен!.. Он подкидывает ключ на ладони, как бы удивляясь, что тот в самом деле – тя-желый!
– Мировая пушечка! Верно я говорю?.. Сейчас как бабахнем!.. А то и Леман меня считает мелким ширмачом! Я однажды фрайера-иностранца обработал… Во жлоб был! Дал мне свой чемоданчик – поднести до гостиницы. А я говорю, деньги – наперед. Гони монету валютой! Улыбается. О, о! Яволь, яволь… Сделал я ему яволь. И деньги получил – целый доллар, и чемоданчик в придачу. А в ем… часы, много часов, золотые… Даже будильники! Эх, урва-мама!
Будильники, по мнению Кольки, самая дорогая разновидность часов. И что за народ бывшие блатари, хлебом не корми, дай только похвастать! Сколько раз уже слышал эту историю. Каждый раз чемодан наполняется – сообразно капризам Колькиного воображения – то часами, то николаевскими золотыми, а то «шиколадом». Как-то я поправил Кольку: «Не шиколад, а шоколад». – «Ты, фрайер, его видал? Ты его едал? Толкуешь! Ши-ко-лад от слова – шик! Это и дураку ясно!» Я и вправду не видал, не едал этот «шиколад» (что я – буржуй, нэпман или торгсиновский пузан?..) и не стал оспаривать блатное языкознание своего друга Кольки Мухи.
Мы, однако, не теряем время. Прижимая большим пальцем по две-три спичечных головки к жерлу ключа, Колька набивает нашу пушечку «порохом». Один коробок уже там! Затем – другой! Колька многозначительно поглядывает на меня – чтоб я по достоинству оценил вместительность заряда нашей пушечки. Сопя и шморгая носом, Колька, пыхтит, кривит губы презрительно, точно видит очень страшный сон. Теперь Колька вынимает из кармана толстый гвоздь. Гвоздь тоже мне предъявлен на предмет оценки по достоинству. И впрямь замечательный гвоздь – новый совершенно, шестидюймовый гвоздяра! Где я видел такие гвозди? Ах, да – в порту. Там плотники ремонтировали причал. Не зря, значит, Колька там ошивался. Запасливый, – вот и добротный обрывок английского морского шпагата извлечен из того же кармана. Теперь уже Колька улыбается во весь свой щербатый и слюнявый рот. Он убежден, что я восхищаюсь им! Мы прячемся под узким навесом, вода течет мне прямо за ворот, в душе я уже чувствую одно лишь вялое любопытство. Куда делась романтика, сражение и пушечная пальба, пороховой дым и гром рвущихся ядер? Суворов, Измаил, и Рымник?.. Нет, это мало похоже на то, что я читал в книжке, что слышал от отца, от тети Клавы! А интересно, когда Леман переходил Сиваш-море, пушки, наверно, несли на себе. А может, так и стреляли, из пушек на вытянутых руках? Красиво! Колеса над морем, красные звезды на шлемах, зияющие черные жерла нацелены прямо на брюхатого Врангеля. Ясное дело, что, едва лишь завидев их, генерал сразу задал драпа! Эполеты падают, галифе с широкими лампасами вдрызг порваны и дымятся. Я представляю, как бежит генерал – брюхатый, коротконогий и задастый. Все-все как на плакатах гражданской войны. Смехота эта буржуазия!
– Ты чего? Держи, вот!.. Головкой дрыбалызнешь гвоздяру об угол, заезжего дома, об кирпичный фундамент. Прямо под окнами деревенского жлобья… Во, потеха будет!
– Я-а?.. – Странное великодушие! – У тебя лучше получится…
– Ты льешь пули! Мне это, что волку жилетку… Заздря по кустам трепать. Я еще не из таких пушечек палил!
Господи праведный! Для меня старался человек! Странное благодеяние! Я, оказывается, могу еще остаться неблагодарным!.. Нет, я не решусь усомниться в великодушии Кольки Мухи, ширмача херсонского Привоза! Умолкни сомнение – не хочу я прослыть трусом!.. К мужикам, или как теперь стали их называть, к колхозникам, я вовсе не питаю такого желчного презрения, как Колька Муха: У него это – профессиональное. Хороший тон у уркачей – презирать, даже ненавидеть тех, кто чаще всего становится их жертвой. А у кого же чаще всего воровал на привозном базаре Колька Муха, как не у этих колхозников, которых называет – «жлобье»? К тому же Колька Муха истый горожанин. Как многие подобные «личности», он как-то смутно различает спекулянтов и привозящих на городской рынок колхозников! Все они «жлобье», «мешки с деньгой», «жадюги». А чей он хлеб ест, уркач?
Уже полгода, как Кольку привели к Леману, а вот урка в нем сидит крепко. Он ест детдомовский пшенный суп, заедает его магаровой, коричневой, как печень бычья, кашей, подобно всем нам потом круто солит свою пайку хлебушка и тоже не спеша, растягивая удовольствие, поедает ее, – а вот блатную стать свою блюдет свято! И, значит, колхозники, чей хлеб он ест, для него – «жлобье». Сам ты, Колька, жлоб! Другой бы тебе съездил по шее, а я вот – трус, слушаю тебя, мало того – помогаю воровать ключи под видом пушечек и стрелять у людей над ухом… Эх, вернуться бы в комнату, за общий стол, уж лучше решить с полдесятка задачек на сложение многочленов или пусть даже на деление, которое так не люблю… Я прислушиваюсь – из комнат младшей группы ветер доносит обрывки песни. Ломкими детскими голосочками в этой песне знамени коммунизма велено виться над землей трудящихся масс. Это уже успела вернуться тетя Клава! Даже в воскресенье она в интернате. Сейчас она занимается младшими. Бывает ли она когда дома? Даже свою дочку, профессорскую дочку, востроглазую Аллочку, сюда привела, – та уже привыкла, словно дома-то у нее нет. А дом у Клавдии Петровны – хорошин, просторный, с голубыми наличниками, на дворе – коза. И книг в доме – видимо-невидимо! И не только профессорские, скучные. Я бывал в этом доме не раз. Хорошо мне там!.. Но что это тетя Клава – хор затеяла к празднику? «Ве-е-йся зна-мя ко-мму-низма на-а-д землей трудящих масс!..» – вовсю старается малышня!
Шура – родственничек тети Клавы, кажется, порядочный шалопай и нечистый на руку. Все тащит из дому – на толкучку! Чуть ли не в глаза называет тетю Клаву – дурой. А она сажает меня, Аллу и Шуру на продавленный диван и читает нам «Евгения Онегина»! Сама читает, сама слезы вытирает («правда, ребята, – прекрасно!»). А Шура в это время украдкой обучает Алку в подкидного дурачка. Он считает, что тетя Клава читает как гимназистка. А то вынимает из кармана свой капитал и пересчитывает; раз, другой, снова сначала. Я знаю, Шура собирается драпать в Одессу или в Крым. «Капиталу пока нехватка, – подмигивает он мне, – ничего, пробьемся!» Знаю я, что это за «пробьемся». Опять будет продавать профессорские книги…
– Может, не за тем углом, не в заезжем дворе? Может, за уборной стрельнем?
– У, какой ты робкий! Зачем же уборная? Крыс, что ли, пугать? – презрительно кривит мокрые губы Колька Муха. – Пужнем жлобье, в порты накладут бородачи! Или трусишь? Да?..
– Ладно уж… – Трусом прослыть я меньше всего хотел бы. Колька на весь детдом раззвонит, что я трус! Мне и в голову не приходит, что трусость именно в том, что я боюсь прослыть трусом.
– Ну, ступай! Уговорили мою тетю выйти за Гро-шильда, осталось теперь уговорить Гро-шильда.
– Не Гро-шильд, а Ротшильд…
– При чем тут рот! Грош-ш-шильд – от слова «гроши». Хорошие гроши есть у человека. И наплевать ему на усех!.. А у тебя башлей нема, на магаровой каше – на кого стал похож? Да еще с книжками вожжаться. Глянь на себе – глиста в обмороке. Схожу я в порт, возьму шиколаду – вмиг поправишься. Морда станет гладкой, как у турка на том шиколаде. А в ногах, у него бикса турецкая в штанах, грудь голая и титьки врозь. Но тоже в теле от шиколада! А, что с тобой треп развешивать – ты еще ничего хорошего в жизни не едал…
Колька мне сейчас напоминает мою деревенскую подружку Анютку. Та тоже любила хвастать и выдумывать: «Вот я ела, а ты не ел!» Правда, не знала деревенская Анюта про городской «шиколад»!.. Это значительно ограничивало ее фантазию. А ела она – «сало с орехами», «кутью из одних цукерок», «шкварки с земляникой – вот, я ела, а ты не!» Чудная была девчонка…
* * *…Вспоминаю молнию перед глазами – и тут же темень и резкий, кислый запах серы. И боль. И тупое чувство сожаления. Зачем я это сделал?
Разлепляю глаза – нет, глаза видят! Только что это с моей рукой? Посинела вся, точно в сильный мороз. А ключ, пушечку нашу, – развернуло, как майский цветок! Есть, есть такой цветок – королевские кудри, кажется. Лепестки закурчавило, прямо ювелирное изделие! Ключ лежит у моих ног, а гвоздь, наверно, куда-то унесло. Выстрелила все же пушечка… Чего же я не радуюсь? Рука багрово-фиолетовая, вся вздулась, и боль, боль. Женька Воробьев говорит всегда – кто не умеет терпеть боль, тот жалкий человек. Говорит с таким видом, будто бывал под пыткой во вражеской разведке, по меньшей мере! Весной Женьке делали операцию, разрезали живот и долго искали уползавший куда-то аппендицит. Но как болит рука! А все же – если б пытка? Выдал бы я военную тайну, предал бы товарищей? А там боль посильней – в десять раз, в сто раз! Вообще – что такое боль, о чем она? Расплата она за глупость, видать. Но куда лучше было б, если бы предупреждала глупость! И все же – надо терпеть. Стыдно, как на меня смотрели колхозники из заезжего дома!
Подкосил их неурожай…
Наезжают на рынок, чтоб продать разбавленное молоко и купить хлопковую макуху. Она ныне у них вместо хлеба, тускло-золотистая, как сухой конский навоз, и твердокаменная, горькая; пока жуешь, десны все изранишь, обглоданный край макухи – весь красный от крови. Макуху продают и кусками. Бывает, и мы тащим с лотков эти куски макухи. За нами гонятся. Толпой, дружно. Рыночный люд солидарен в защите собственности.
Однажды я попался. Поймала меня не баба, у которой стащил, а крепкоскулый биндюжник, с красной шеей и с батогом в руке. Он смеялся, забавляясь тем, как я бессильно рвался из его цепкой руки. «Ну шо, титка? Чы тоби його даты на расправу, чы самому батагом огрить?» – «Та хай ему бис! Не урка, бачу… Сиротка из детдому… Та хай уже истымо».
Шлепок биндюжника пониже спины был чисто символическим. Биндюжник при этом даже не напомнил о второй заповеди: не кради, мол… Мне было стыдно, что пожалели меня именно как детдомовца, что отличали меня от обыкновенного уркача. Самая, может, прихотливая педагогика не возымела бы такого воздействия на меня, как это великодушие колхозницы и биндюжника с батогом…
– Тикай, чудило! – кричит мне Колька. – Ну и фрайер!..
Сам Колька уже успел скрыться за противоположный угол двора, нырнуть за каменный забор. А я стою как паралитик – ноги ватные, руку жжет, словно обварили ее крутым кипятком. Три окна заезжего двора враз открылись. Несколько ворохов лохматых мужских голов и бабьих платков в зыбкой и взволнованной подвижности, какие-то голоса и ругань – все плывет перед глазами, едва задевает мой слух…
* * *– Ты что, язык проглотил? Или, как это говорится, в тихом болоте черти хороводятся? – спрашивает меня Леман. – Зачем такую мерзость придумал, зачем?.. Полез черт по бочкам плясать? Вот тебе похмелье опосля веселья!.. Зачем стрелял?..
Леману, видно, очень важно знать – зачем? Но именно это мне трудней всего объяснить. Это у них, взрослых, все ясно, все: и зачем, и почему. Да разве он поймет, Леман, как было скучно от этого бесконечного дождя, сумеречных комнат? Да разве поймет он про Суворова, Измаил, гром пушек и свист раскаленных ядер? А главное, не поймет Леман, что я нуждаюсь в друге, что когда-то в деревне были у меня друг Андрейка и подружка Анютка, и они меня не предали бы как Колька Муха, не сбежали бы, оставив одного… Наконец, разве понимают взрослые, как трудно говорить, когда на душе такая сумятица? Слова не идут с языка. А Леман, я знаю, обожает тех, кто быстрый на слово, у кого язык хорошо подвешен. Те сразу попадают в его любимчики…
– И зачем пошел на двор в дождь? В интернате тебе тесно? Так дураку и в собственном черепе тесно, как это говорится. И ты не один стащил ключ? Клавдия Петровна говорит, что она видела двух мальчиков возле ворот, но сквозь окно не разглядела – кто? Окно было… запаренное от дождя. Она говорит, что похоже на Кольку Масюкова? Он тебя подбил, да? Говори же!
– Я ключ куплю… Такой же точь-в-точь… Я на толкучке видел… Деньги мне Клавдия Петровна даст. Она даст, Федор Францевич, – вдруг меня прорвало. – Я этот ключ даже нарисовать могу… Бородку то есть… Все дело в бородке!.. Будет отпирать и запирать… Два фигурных паза на ней. И дульце помню. Я все рассмотрел.
Подхожу к столу, Леман мне дает листок бумаги и карандаш. Со свирепым интересом, точно наш учитель рисования, старикашка лысый, грек Колли, смотрит он, как я рисую. Я не обманул Лемана, я хорошо запомнил и бородку, и размер дульца у ключа. «Вот еще Левитан на мою голову нашелся…» – бормочет Леман.
– Федор Францевич, он не виноват… Я узнала – это все Масюков, – опасливо просунув шляпку в приотворенную дверь, торопливо проговорила тетя Клава.
– Закройте дверь… Сам разберусь! – недовольно морщится Леман. С тетей Клавой он не привык церемониться. Нет у нее «карактера», как говорит о тете Клаве наша повариха Фрося. А без этого «карактера», видно, человека трудно уважать. Вот и у меня нет «карактера». Поэтому она меня жалеет и домой берет?
– Распустились, никакой дисциплины… Это все Клавдия Петровна… – выходит из-за стола Леман. Он одним рывком затягивает на целых три дырки свой широкий ремень поверх френча – словно подтягивать дисциплину решил начать с этого ремня. Фалды френча с накладными карманами смешно топорщатся, но без ремня Леман не может. Клавдия Петровна как-то заметила, что не носят ремень поверх френча, Леман на это только зыркнул исподлобья – много, мол, ты понимаешь, поповна! Вертелась когда-то на балах с офицерьем, нахваталась. «С кем поведешься, у того и наберешься, как говорится».
Походив по комнате, точно стратег перед наступлением, снова зашел за стол, и, уперев все десять пальцев обеих рук в расстеленный поверх стола свежий номер «Наднипрянской правды», – будто это и впрямь была карта генерального наступления на пошатнувшуюся дисциплину, – Леман выносит мне революционный приговор.
– В воскресенье, в казарку сорок пятого полка, на шефскую самодеятельность – не пойдешь! Подметешь интернат, все комнаты! Только чтоб без пыли, побрызгать водой из лейки – и не валяй-шаляй! За ключом завтра же с утра отправляйся на толкучку. – И уже тише: – Где ты его там видел?..
– У слесаря Шибанова, который примуса чинит и ключи вытачивает. Он еще тельняшку под ватником носит… Он бывший моряк, механиком на «Чичерине» плавал… Он мне разрешает помогать. Я умею капсульку шарнирным ключиком вывернуть из головки примуса. Я…
– Ладно, ладно… Носит тебя где попадает, как говорится. А за слабохарактерность представление – самодеятельность красноармейцев – не увидишь! Не достоин ты в казарму войти!.. Подметешь комнаты, отправляйся к Фросе, котлы строгать… скоблить, как говорится. Понял? Книжки читаешь, должен помогать бывших беспризорников перевоспитывать. А ты сам у них на поводу! Колхозников решил напугать! Как же, напугаешь их, как утку дождем. Их даже встречным планом не напугаешь…
Леман спохватился, что заговорил не о том, и пристально глянул на меня своими тоскливыми, слегка навыкате глазами. То ли от бессонницы, то ли от малокровия, глаза его были в красных обводах воспаленных век. Никто не знал, чем жив этот аскет, когда спит, что ест… С утра до вечера он носится по отделам наробраза и горсовета, выколачивает лишний пуд муки, бутыль постного масла, молоко и редкостный белый хлеб для больных детишек из младшей группы. Возвращается с темными – от пота – пятнами на спине френча. Сколько Фрося ни уговаривает Лемана поесть детдомовского кулеша или магарной каши, он конфузливо краснеет, отмахивается, но никогда не решается прикоснуться к еде, предназначенной для нас, его питомцев. Придирчиво выверяет он на чашечных весах полфунтовку обеденной пайки хлеба, и не дай бог, если обнаружит малейший недовес!.. Фросю после этого видели заплаканной, убитой горем. Она оскорблялась подозрением в корысти, Леман говорил жестко, что его не интересуют причины недовеса. Пайка должна быть полновесной! Наконец тете Клаве велено было присутствовать при взвешивании хлеба. Сколько она ни доказывала, что мера эта излишняя, что Фрося за детей душой болеет, что она себе крошки не возьмет, Леман был непреклонен…
Дернув ящик стола, Леман вынул ключ, превращенный мною в цветок – королевские кудри. Мрачно полюбовавшись моей работой, саркастически хмыкнул. «Убил птицу, перья остались, мясо улетело, как говорится». И уже для меня, отдавая ключ:
– На, покажешь своему слесарю. Механику то есть. Ступай, мы еще потолкуем. А то вон твоя защитница за дверью не дождется… Избаловала тебя…
* * *И как он только догадался, Леман, что тетя Клава ждет меня за дверью?
– Ну что? – расширила тетя Клава свои без того просторные зеленоватые глаза. – Что тебе будет? Надо же, такое натворить! Никак от тебя не ждала…
Ну вот… Конечно, еще добавит: «А еще детдомовец!» Или, чего доброго, приплетет тут мой «талант»… читать книги. Уж лучше взялась бы за своих великих писателей. «Толстой сказал, Горький сказал…» Тут и впрямь занятные вещи можно услышать от тети Клавы. Глаза у нашей поповны при этом загораются молодой страстностью – можно подумать: это ей одной по секрету Толстой сказал и Горький сказал. А уж память у тети Клавы, дай бог всякому! Набралась, видать, по гимназиям да по курсам. А тут еще профессор-муженек. С кем поведешься, у того наберешься, как любит говорить наш Леман.
– Мне нужен рубль, – прервал я свою воспитательницу. Тетя Клава поджала сухие губы. У нее сделалось лицо рьяной супружницы на страже семейной казны от супруга-мота. Она молчит. А молчать для нее – дело не из легких. Как же быть с речью, с прекрасной речью, которую она приготовила за дверью Лемана в ожидании меня, проштрафившегося питомца? Небось всем великим писателям косточки в гробу потревожила…
Образованная тетя Клава! А что толку? Кому больше всех попадает от Лемана? Кто чаще всех плачет от него? Вот и выходит – умная-вумная, а дуреха! Скажем, к тете Полине или Белле Григорьевне Леман не прискребается. Те и без великих писателей умеют постоять за себя… Жалко порой тетю Клаву. Трудно, видно, быть доброй, если только ты не хитрая и «карактера» нет. Да и от нас тете Клаве достается на орехи. И тут тоже плохо помогают ей и Толстой, и Смайсл, каторжник Петропавловки Морозов, и учитель учителей Ушинский. Все-все, по отдельности и вкупе, – по прихоти цепкой памяти тети Клавы – призваны они трудиться на ниве детдомовского воспитания…

