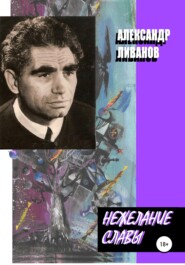скачать книгу бесплатно
Сильно смутили они наши детские души – довелось бы очень много спрашивать Клавдию Петровну, поэтому мы ни о чем не спрашивали. Да и «подводить поповну» мы не хотели своими смутительными вопросами. Она видела, что плохо слушаем, понимала, казалось, что с нами происходит, нет-нет, сама взглядывала в окно и ненадолго задумывалась.
Впрочем, наверно, всегда он таков – двойной дух воспитания…
– На переменке – все пойдем помогать укладывать поленницу. И я с вами пойду…
«Ура!» – крикнули мы – хотя раньше эта работа была для нас сущим наказанием.
В начале – про инструмент. Но разве и не о нем же и конец? Да «поповна» была хорошей воспитательницей. Тем же мастером…
Пробуждающий боль
«…Боже! Какое несчастье, что я не могу справиться с собой и выказываю свою слабость человеку, который держится с таким спокойствием, хотя ему за всю его жизнь не пришлось испытать того, что я испытал за один день! – Он выкрикнул это с болью и судорожно вцепился руками в грудь, словно собираясь растерзать себя на части».
И почти рядом, через полстраницы: «Вы попрекаете меня моим происхождением, моим воспитанием. Так знайте же, сэр, что, несмотря ни на что, я пробил себе дорогу в жизни. У меня есть все основания считать себя выше вас, я с большим правом могу гордиться собой» – и т.д.
Какой взрыв ущемленного чувства достоинства! Какая отчаянная и неуклюжая попытка его отстоять! Какой страх все же не не отстоять, лишиться его в чьих-то глазах!.. Есть поговорка – «самоуничижение паче гордости» – здесь, наоборот, кажется, гордыня – паче самоуничижения!.. И как больно за эту простодушную, честную, неумелую гордость «маленького человека»!
Кто он – заговоривший вдруг так пространно, почти без своего обычного косноязычия и страха Акакий Акакиевич? Одна из слезливых, истерично-хмельных исповедей Мармеладова?.. Чехов? Зощенко?..
Впрочем, в тексте – «сэр» – и сразу понятно нерусское происхождение текста. Это, разумеется, Диккенс. Наугад открылась на этих страницах книга, прочитаны два абзаца – и душа уже ими переполнена. Даже боишься дальше читать, что-то уточнять – почему кто-то кого-то, чем и как унижает… Боишься, как бы больше не стало меньше. Да и в сюжете ли дело!
Одна из многих диккенсовских эмоциональных кульминаций – и уже думаешь не о конкретном герое, о гордости, о чувстве человеческого достоинства, которые одни так небрежно, по привычке или нарочито, с выгодой попирали в ком-то, а другие так отчаянно от них отстаивали в мире, где так принято было, где были «знатные» и «безродные», «богатые» и «бедные», «с положением» и «простолюдины»… По сути – какой странный мир! И это всего-то каких-нибудь полтора века тому назад. Еще у Гоголя, у Достоевского могли об этом прочитать… Как изменился мир, как ХХ век его «разрушил, а затем…»
Именно переполненность душевная мешает читать «дальше». Откладываю книгу («Наш общий друг»). Пожалуй, никто до Диккенса не открыл литературе великую душу так называемого «маленького человека». Его бы, впрочем, вполне самостоятельно открыла бы наша классика (еще когда Карамзиным написана была «Бедная Лиза»! Пушкиным – его «Станционный смотритель» – и т.д.), но все же вся она всегда благодарна была Диккенсу за его природный демократизм, за человеколюбие! Даже Толстой, бестрепетно свергавший с пьедестала великих, о Диккенсе отзывается с неизменным почтением, нет-нет, его называет – великим! Диккенс – целая школа сострадания и добра – не мог не полюбиться душе России: и русским читателям, и русским писателям. На его книгах и зрелая доброта в поколениях наших читателей… Им зачитывались гимназисты и студенты, либералы и литераторы.
Влияние?.. Думается, не о нем речь. Художническая мощь Бальзака или Стендаля ничуть не меньше, чем у Диккенса. А вот найдем ли мы – не на страницах книг, в самой душе нашей литературы – их след, столь явственно, как диккенсовский? Вот разве-что Гюго… И к нему, равно как к Диккенсу, неизменна любовь наша. В то время, как мы это видим на западе, современный буржуазно-мещанский («сытый», как в подобных случаях говорил Чехов!) читатель под всяким предлогом отрекается от Гюго, как от «нелиричного поэта» (нечто подобное возглашал и наш омещанившийся, а то и еще ранее, обуржуазившийся, «сытый» читатель о Некрасове и Маяковском!), «риторичного прозаика»!.. Основа космополитичности мещанина – всегда бездуховность.
О том, что Диккенс принят Россией в душу – хочется верить: навсегда – говорит, например, наша поэзия. Герои Диккенса, пафос его гуманизма, вдохновили многих русских и особенно советских поэтов: Писал и Есенин.
Товарищи, сегодня в горе я,
Проснулась боль
В угасшем скандалисте!
Мне вспомнилась
Печальная история –
История об Оливере Твисте.
…
Я тоже рос
Несчастный и худой,
Средь жидких,
Тягостных рассветов.
Но если б встали все
Мальчишки чередой,
То были б тысячи
Прекраснейших поэтов.
Знаменательно здесь, во-первых, отождествление судьбы детства – своей и героя Диккенса! В этом уже – общечеловеческая сущность писателя… Затем, во-вторых, мысль о страдании, как главном истоке – и поэта, и поэзии!.. И национальное так стало общенациональным.
Да, Диккенса всегда любили и ценили в России. Именно за его мужественный, надежливый, мудрый гуманизм…
Мы помним восторженные отзывы Белинского по поводу романов Диккенса. Но здесь хочется привести слова Достоевского, которые, думается, проливают свет и на наше отношение к Диккенсу, и вообще раскрывающие одну и тайн нашей читательской души. «Мы на русском языке понимаем Диккенса, я уверен, почти так же, как и англичане, даже, может быть, со всеми оттенками; даже, может быть, любим его не меньше его соотечественников. А, однако, как типичен, своеобразен и национален Диккенс!»
Иными словами – общечеловеческий масштаб художник достигает лишь через национальное выражение! Любопытно, каким внутренним затруднением Достоевский уступает все же «первенство» в любви соотечественникам Диккенса… Думается, что не будет в том излишней притязательности, тем более обиды для национального чувства соотечественников Диккенса, если скажем, что «в оттенках» Диккенс нами понят был лучше. И в силу той же «простой» причины, давшей Ленину основание сказать, например, что Россия выстрадала марксизм! Страдальческое – прозорливое – чувство России всегда было главным, никогда «сытое», буржуазно-мещанское чувство не брало в ней верх…
Этим объясняется то, что мы давно постигли все лучшее – гуманное и прогрессивное, а не отвлеченно или самоцельно художническое – в Европе, в то время, как ей еще не удалось до сих пор понять нашу поэзию – от Пушкина до Есенина… По существу, об этом же писал Достоевский еще в 1876 году в своем «Дневнике писателя»: «Я утверждаю и повторяю, что всякий европейский поэт, мыслитель, филантроп, кроме земли своей, из всего мира наиболее и наироднее бывает понят и принят всегда в России… всякий поэт-новатор Европы, всякий, прошедший там с новою мыслью и с новой силой, не может не стать тотчас же и русским поэтом, не может не миновать и русской мысли, не стать почти русской силой».
Итак – «русская всемирная отзывность» – имела причиной многострадальную душу народа, редкостно страдальческую историю, которую здесь не перескажешь. Достаточно вспомнить хотя бы около 300 лет монголо-татарского ига, еще более 350 лет крепостного права (от которого Европа довольно быстро освободилась, «одарив» Россию его вторым, еще более жестоким изданием!). Уж, казалось, понимание-взаимопонимание между Россией и Европой должно было, вот-вот, свершиться, но русская духовность не стояла на месте, она была в основе Октября, и снова Европа очнулась, и так до сих пор, далеко позади от понимания нас. В то время, как мы ее нынешние духовные искания, самые искренние и истинные – в «оттенках» пусть, как говорит Достоевский! – понимаем явно лучше и глубже… Что же такое «понимание» в конце концов – как не страдальческий – духовный – опыт народа?
Но вернемся к Диккенсу, первому в мировой литературе ставшему столь решительно на защиту человека самого социального низа. Его «Оливер Твист» появился в 1837 году, за четыре года до гоголевской «Шинели», за девять лет до «Бедных людей» Достоевского, за четверть века до «Отверженных» Гюго! Трудно установить прямую связь между написанием «Оливера Твиста» и помянутыми произведениями Гоголя, Достоевского, Гюго, но – несомненно – что все три писателя читали «Оливера Твиста»!.. Нелишним, верно, будет заметить, что самый последовательный защитник униженных и оскорбленных – Достоевский – написал свой знаменитый роман того же названия еще за год до «Отверженных» Гюго, это был первый роман («Униженные и оскорбленные») Достоевского после его каторги!
Недаром Октябрьская революция осуществилась под знаком гуманизма – первые ленинские декреты упразднили почву, на которой произрастала мораль унижения и оскорбления одного человека другим. Никаких имущественных, сословных, национальных привилегий – единое, равное для всех звание: гражданин республики!
Недаром Горький, высоко ценивший гуманный пафос творчества Диккенса, еще до Октября возгласил – «Человек – это звучит гордо!». Горький остался знаменосцем гуманизма во всей мировой литературе. Гуманистическая масштабность демократии не отменяет значения конкретного в каждом случае, воплощающегося в конкретном же проявлении гуманизма! Мы уж не говорим о тех случаях, когда демократия по разным причинам лишается главного своего содержания – человеческого служения, этически замутняется политиканством, недостойными ее лично-безнравственными лидерами-карьеристами, или вовсе сбивается с пути гуманизма к жестокости, став собственной противоположностью…
Человечество лишь в начальных классах великой школы гуманизма. «Для веселия планета наша мало оборудована», – когда-то посетовал Маяковский. Она и ныне «не оборудована». Более того, бездуховный эгоизм достиг такого ожесточения, что грозит вовсе уничтожить планету и жизнь на ней. Ядерное вооружение, которое в состоянии враз уничтожить 100 разово планету – никто не назовет «оборудованием для веселия»… Наш век недаром назван – «преступным веком». На его совести – две мировые войны, газовые камеры, лагеря смерти – около ста миллионов человеческих жизней. А там войны – классовые, расовые, религиозные. Мир и ныне в военных пожарах, земля рвется от снарядов и бомб, корчится в отравленной экологии.
Но неужели ничего не достигнуто человечеством? Неужели классика – и наша, и мировая – так не смогла ничего посеять «разумного, доброго, вечного»?..
К счастью, это не так! Перечитаем эти две выдержки из Диккенса. Случайные вроде бы, «открылась на них книга» – но они рождают огромную тему, с которой вряд ли справиться в этих беглых заметках. Тема остается, вопрос остается. Каждый волен обосновать ответ по-своему… Мне лично думается, что несмотря на страшное усложнение жизни, когда человечество отчаянно ищет гарантию выживания, все же можно сказать, что проблема человеческого достоинства решалась в нужном направлении. Даже трудно стало представить себе ныне это судорожно-отчаянное, отстаивающее себя, как на страницах романа Диккенса (характерное для своего времени – повсеместно) человеческое достоинство!.. И это само уже по себе – очень много. Человек зазвучал гордо. И не в этом ли залог, что он и планету, и человечество отстоит от мировых сил зла?..
Задумавшийся читатель
В разговорах о классиках, да и не только о классиках, никто не обходится без слова: «художественность»…
У иного читателя, особенно из молодых, может сложиться впечатление, как о чем-то общем для всех, о неизменном для всех свойстве, которое, впрочем, он сам еще не научился различать! И конечно, за него принимается нечто яркое, лезущее в глаза, «красочность», не гармоничное подчас, а то и просто нарочитое: наивное (от незрелости художника) – или, наоборот, весьма изощренное, чем формально нередко прикрывается бессодержательность, от эгоистичной стилистики – до субъективизма отражения действительности…
Во всяком случае – подлинную художественность, в той простоте, которую может родить только большая полнота содержания, эту простоту подобный читатель уж никак не сочтет: художественностью!..
Между тем – у каждого художника «своя» художественность, которая как бы незримо питается, неосознанно уходит корнями в художественность классики. Самоцельность изобразительности, претензии на «полную ее независимость», на «совершенную оригинальность» – на деле есть и отсутствие «своей» художественности, рожденной содержанием: утрату чувства корней в классике…
Попробуем это показать на примере… Молодому читателю, с его «молодым» пониманием художественности, например, трудно придется с текстом Булгакова! Вооружившись, скажем, карандашом и блокнотом, чтобы «выписывать образные места», он вскоре может оказаться в недоумении… Сколько, скажем, «такого» у Артема Веселого, у Юрия Олеши, у… Фазиля Искандера, наконец! Этот читатель, впрочем, уже понял, что дело не только в «описаниях природы», в пейзажах природы, как его учили в школе, где «высший и недосягаемый», конечно был Тургенев, а, скажем, к Достоевскому, Чехову она «снисходила», понял, что «словесные пейзажи» бывают и не только в «описаниях природы»…
И вот он недоумевает над страницей Булгакова. Что же здесь выписывать? Ни пылающего заката над черной рощей, ни клубящего мана над речной излукой, причудливо размывшего контуры привычной реальности… Разве остановит его, скажем, такое место в «Беге»? «Съежившись на высоком табурете, сидит Роман Валерианович Хлудов. Человек этот лицом бел, как кость, волосы у него черные, причесаны на вечный неразрушимый офицерский пробор. Хлудов курнос, как Павел, брит, как актер; кажется моложе всех окружающих, но глаза у него старые…».
Что это – «портрет Хлудова»? Разумеется. И внешний, и даже внутренний… Но вместе с тем это и портрет – внешний и внутренний, более, чем психологичный, пожалуй, трагедийно-психологичный – самого времени! Обреченного в своей трагедийной неизбежности – уйти, во имя нового времени, которое, вместе с автором, не глумится, не трунит саркастически, а грустно-сочувствующе, с пониманием, сопровождает уход этого, недавно еще столь уверенного, законченного в форме, времени. Из этой уверенной формы («присяга трону», «честь дворянина», «долг офицера», «святая Русь» – и т.д., и т.д.) – ушло, точно вытекло, вместе с кровью народа вымыто, содержание! Этот «высокий табурет» – при «съежившемся» генерале генштабисте, обреченном командующем обреченной белой армии – точно памятник белому!.. Сколько подтекста в проходных вроде словах: «лицом бел, как кость»! Ведь и армия белая, и дворянская «кость белая» – и вместе с тем, как потом будем еще (люди моего поколения) петь два десятилетия, это и та самая «кость», которая «тлеет в Замостье»… «Черные волосы», – Печорин – черноволос, Вронский – черноволос, наконец, у Чехова, в «Трех сестрах» Соленый – черноволос, «как Лермонтов», как любит подчеркивать этот завистливый, одиозный офицер… Черноволос и Николаев в куприновском «Поединке», этот офицер-карьерист, подло убивший неприспособленного ни к службе, ни, кажется, к самой жизни, прапорщика (светловолосого!) Ромашова…
От «классического офицерства», равно, как ныне, от белого его завершения, остался лишь этот – «вечный неразрушимый офицерский пробор»!.. Как много сказано и последними двумя словами: «глаза старые»… Они слишком много успели увидеть. Глаза почти духовно прозрели – в то время как рассудок еще не прояснился. Но, благодаря этим «старым глазам» – опыту пережитого – потом прозреет и рассудок. И совесть русского человека. Преступление будет осуждено и наказано – еще прежде, чем Хлудов вернется на родину во имя ее суда и наказания за преступление против народа…
«Курнос, как Павел», «брит, как актер» – это тоже не просто: литературность. Ведь речь о пьесе, это та «театральная изобразительность», тот «театральный портрет», который должен помочь и постановщику, и актеру верно строить внешнюю форму образа! И как ходульно-напыщена честь белого офицерства, показушная верность мнимому долгу в этом материальном образе – «высоком табурете»!
Лапидарность в характеристике Хлудова, как нам кажется, вся уходит корнями в классику. Здесь и многозначная простота, и краткость Пушкина, которые надо уметь расшифровать. Главным образом двойным опытом, и личным, и что еще важнее – пушкинским! Здесь и гротеск, вроде бы ненасмешливая язвительность Гоголя, его, вроде бы рассеянное, внимание к предметно-внешней детали, за которой – человек, мир его души посреди мира людей. Здесь и Толстой с его «плотским зрением», и Чехов с его проницательной, умной наблюдательностью, редкостно художническим рисунком!
Даже это – «кажется моложе всех окружающих»… То есть, генерал – не по годам, что говорит о талантливости Хлудова (таким был и Слащовъ – генерал в тридцать лет! – прообраз Хлудова). То есть, та двойственность образа, когда годы моложе опыта пережитого! То же свойство – художническое, подобно тому, как образ есть концентрация содержания в предельных средствах (словах)…
Итак, вернемся к тому молодому читателю. Его «недоумение» по поводу, скажем, булгаковского текста, его неброско-зримой образности – благодатно. Он задумался – и это главное! Ведь художественность слова, – в отличие от его информационно-служебной, логически-обиходной роли – прямо не сообщает нам знания. Оно «всего-то» побуждает задуматься. И как часто это и приносит единственно-подлинное знание!
Все – из пережитого
Еще одно, видать, знамение нашего литературного времени: размывка грани между литературоведением и прозой. Писатели-прозаики пишут «литературоведческие романы», литературоведы – «писательские», художественные эссе! А там – и вообще «работы», вообще «исследования», которые похожи и на то, и на другое, ни на что не похожи (в жанровом отношении). Но все это издается литературно-художественными издательствами. И все это охотно читается, кажется, даже куда с большей охотой, чем «чистые романы»: есть здесь – «доподлинность».
Жажда доподлинности растет по мере усложняющегося времени, роста демократии и гражданской зрелости, как у писателя, так и у читателя, побуждает искать подобающую тему, вопросы-ответы в ее ретро…
Причем, с года на год, доля такой литературы – о литературе – в литературе – растет!.. В сущности, это некий корректив, пассивный, молчаливый, но корректив современной прозы, ее «романтистике-беллетристике», отсутствию к ней доверия и уважения. Скажем, читатель покупает и охотней читает тысячную «работу» о Пушкине, или, скажем десятую «работу» о Булгакове, не желая и ведать ее жанр, чем станет читать новую повесть или роман неизвестного современника (разве что у того «скандальная», слегка все же, известность!) в толстом журнале. Подожду, мол, пусть еще «заявит себя»!.. Словно и вправду писателю надлежит «заявить о себе» каким-то другим способом, помимо писательского! Обычно это «заявить себя» – больше или меньше осознанно – означает пресловутую «смелость»… Пусть вся-то смелость идет не дальше, чем микроскопическая критика чего-нибудь официального, даже изжившего себя официального, не дальше дозволенного редакторами, главредакторами, редколлегиями, главлитами, высшими «кураторами-прокураторами» и т.д., и т.д. – все одно: «смелость», все одно обывательский шумок, и, стало быть: «Еще не читали?» «Прочитайте!» «Ах, читали? Ну и как?» «Здорово!» «То-то ж!..»
…Читатель стал массовым, но бывает ли массовым – зрелый читательский вкус?.. Кончится ли когда-нибудь читатель-обыватель? Его высокомерно-пренебрежительное суждение о литературе связано с тем, что он «вышеобразован», по счастью «занят серьезным делом». Но судить ему надо – как-никак литература – культура (чего, впрочем, не в пример даже обывателю-читателю, не хочет понять министерство культуры, начисто отстранившее «свою культуру», – от литературы!), ненароком «можно отстать»! «Отстать» обыватель боится… И жужжит, и жужжит… Особенно тут активны современные «дамы» – вышеобразованные, эмансипированные, никак «не отстающие», все читающие, и в журналах, и затем в книгах, и, наконец, все читающие по поводу прочитанного, спешащие упредить собеседника «А вы читали?..» Благо, если речь о детективах («документальных!») Юлиана Семенова, или о фантастике («научной»!) Еремея Парнова, где – как говорится-таким «дамам» обоего пола и карты в руки.
Обретя массового читателя, мы, увы, утратили подлинного читателя, кого действительно стоило б послушать, потеряли «читателя-друга», которого растил, лелеял, помнил, для кого в сущности и писал Пушкин, а следуя ему в этом, затем и вся классика. Велик – безлик! – массовый читатель. Литература вся увязла в «проблемах (ХХ век оказался не столько решающим, сколько вопрошающим, сколько возвещающим о небывалых бедах, одна из которых: как снова обрести читателя-друга?..)».
Один лишь пример к тому – что же такое «массовый читатель». В дневниках Твардовского – поразительная запись. Ему, где-то на отдыхе, захотелось перечитать «Преступление и наказание», взял в библиотеке. По формуляру отметил, что за девять месяцев книгу никто не брал до него!..
Можно себе представить и другое. Что в это же время на книгу того же Юлиана Семенова – запись в очереди! С ограничением срока! Можно бы отнестись к этому как прихоти моды (которая меньше всего, впрочем, уместна в литературе), но, когда не читается Достоевский, а читается Семенов – или так: не читается Достоевский, потому что читается Семенов, здесь требуется вмешательство. Не библиотекарши – издательств!..
«Творческий путь Михаила Булгакова». Так названа книга Лидии Яновской. Чувствуется, автор потрудился в архивах, старалась быть документальной, не заботясь о жанре, «забыла» что пишет: литературоведенье, беллетристику, исследование, или эссе? Идет по «творческому пути», по биографии – и это хорошо, хотя местами автор перегружен материально, задыхается от внешних перипетий, хочет все охватить, отразить, поставить на место и поэтому о факте и хорошенько подумать некогда. Впрочем, написана книга живо, с самозабвенным писательским «я», с любовью к «предмету»…
И, конечно, фотографии! И, конечно, автографы! Как это дорого. Отец, мать, сестра и братья. Миша в гимназистской куртке и в фуражечке, маленький твердый козырек надо лбом, на околыше – симметричные дубовые листья, с молотком и ключом (кажется, это) в середине. Другие фотографии.
Господи, – пишут, пишут, все прекрасно, а глянешь на снимок, и душа комом к горлу: «Вот оно что…». Знать, по-настоящему лишь им дано воскресить время, дать нам в ощущение живой его образ! Какой документ, какое художество здесь может заменить глаз объектива!..
На семейной фотографии 1913 года (Дача в Буче). Миша в костюме. Коротко подстрижен, сосредоточенность и напряженно-спокойная мысль говорят одинаково и о присутствии, и о нездешности. Лицо резко обужено книзу, уступает место лбу, не очень вроде бы высокому, но умному, главное, «упорному»… Чувствуется, свои у Миши мысли, заботы, отдельные от семьи, от фотографа, от всей родни (кроме Миши, видимо, уже студента, на снимке еще двенадцать человек. Светятся живостью, приязнью, симпатией лица сестер в белых платьях!.. (Оля, Надя, Вера, Варя…).
Юный Миша Булгаков то похож, на юного же, Фадеева, то временами на Блока («страстно-бесстрастное лицо»), а то, когда в шутливо-лукавом настроении – на артиста Чиркова. Смотрю на лицо отца – на нем главная черта характера: «Не сдамся! Упрусь, в самую жизнь, вот этим могучим лбом своим – и не сдамся!.. На мне – большая семья – не сдамся!». Идея – «не завоевать», «а удержаться». У сестер Миши – лукавое, насмешливое, но приязненное доверие к жизни, женское терпеливое ожидание своей предопределенной судьбы… Лишь у Миши – в этой задумчивости, в твердом очерке бровей, в самой заостренности лица – словно прислушивается к своей внутренней жизни – во взгляде в себя: предопределенность (призвание) чего-то скорей познать, открыть, поведать людям! И вместе с тем – раннее, острое сознание своей личности, ее обремененности, пусть еще неясной, сверхзадачи. Словно уже видишь на этом лице – обязательство (призвание) – написать «Мастера и Маргариту»! К народу лежала извилистая дорога через газетчину, театр, шумное признание, шумную травлю… Дорога жизни, дорога творчества – точно реки: излуки и перекаты, плесы и стремнины – и все же неуклонный поток: к океану!
Любопытен почерк Булгакова. Он медленный, с прочными следами гимназически-наивной прописности, вьющийся, с волосными, неприметными для себя вроде, соединениями, с постоянным наклоном, сжимающийся, сдержанный… Не его «сдерживают» – он сам «сдерживает», своей подробностью и размеренностью. Строки похожи на неторопливые отвалы пашни. Писал, судя по всему, в общую тетрадь…
Главное, очень похож общей трудностью – эпичностью – на почерк Льва Толстого! За таким почерком мысли не следует поспешать – он сам следует ее хорошей, основательной, продуманности. Почерк – труженика! То есть, в нем – и труд, и трудность, ни попытки облегчить то и другое, и терпкая, напряженная неутомимость.
На форзаце – конец 12-й главы и начало 13-й («На Лысой Горе»): «Настал самый мучительный час…». Мы говорим о «Мастере и Маргарите».
Думается, «Мастер и Маргарита» могло и не быть, если бы творчеству Булгакову не встретились дьявольские преграды, причем, на самом, кажется, концентрированном уровне литература-драматургия, МХАТ и цензура, художественная требовательность Станиславского и идеологическая ожесточенность реперткомов и рапповской критики – все это с одной стороны, и редкостного, бойцовско-художнического упорства Булгакова, его несломной стойкости интеллигента, отстаивающего свои убеждения личности, художника, гражданина! Все-все, в этом романе во всяком случае, выросло из жизни, повседневности, творчества! Нет, не из Ренана, Штрауса, Феррара, не из Брокгауза и Ефрона, Греца, Тацита – из пережитого взял дьявола Булгаков. Он уже ухмыльчато брезжит в «Театральном романе». Он, кажется, лишь замечен Булгаковым, но еще не приковал к себе пристальное внимание. Он еще обманывает, вводит в заблуждение своей ухмылкой… Вот-вот Булгаков поймет, что, собственно, в нем-то главная сущность! Через него могут открыться подлинные, скрытые от «наземного», «бытового» взгляда связи – корни всему живому, всему мертвящему!.. Булгаков наконец нашел главный образ, достойный его творческому азарту, его жадности познания и изучения, его энергии – воплотить…
Насколько важн? для него образ-открытие – судить можно по тому, что Булгаков последнее время «забывает» о театре, для которого, казалось, родился, и занят только романом!..
Между тем Лидия Яновская (как, впрочем, большинство авторов подобных работ о Булгакове) «показывает» как к автору «Мастера и Маргариты» дьявол приходит… из изучаемой литературы!.. Там, где Булгаков «уточнял», там авторы работ о нем находят «истоки»! Выписки – их редкостное обилие – заслоняют внутреннее побуждение художника… Что-то принципиально-важное так ставится с ног на голову.
Мы, разумеется, признательны автору работы (Лидии Яновской) за многие страницы с булгаковскими выписками «О дьяволе», но с общей оценкой их значения как открытия образа и темы – для Булгакова – согласиться не можем. Главное у подлинного художника – не от «изучения»! В этом, может, одно из существенных отличий художника и ученого, писателя и систематизатора…
Становится очевидным, обретя силу чуть ли ни закона, что в нашем осложнившемся мире подлинное – то есть, не временное и модное, а длительное, непреложное – признание художник может обрести лишь ценой подвига против злых – дьявольских – сил жизни! И не важно, кто кого одолеет физически; дьявол силен – главное, выйти на поединок с ним, стоять до конца! Победа или поражение художника (чаще поражение – «дьявол силен!») как бы здесь не решающее. Главное – победа духа личности – духовная победа народа – которая потом становится и полной – «материальной» – победой народа!
И тогда наступает признание. Не ритуальная признательность, из цветов на могиле и юбилейных речей, из хороводов танцевальных ансамблей и праздничных сборищ – как духовная потребность. Ведь художник вышел на поединок с «сатаной нетворчества» (слова Достоевского) неспроста, не ради славы посмертной, а отстаивая человеческое содержание и духовное служение творчества. Ведь что такое сатана – как не бездуховная жизнь?
Страдальческая жизнь, таким образом, сам поединок с дьяволом продиктованы были неизбежностью, самой истинностью творчества! Люди (читатели) в такой жизни художника (поэта, писателя) обретают лишь лишнее доказательство истинности его творчества. И дань признательности – двойная: и творцу, и человеку, и произведениям, и большой духовной жизни!
И как всегда, «все начинается с Пушкина»! В то время с дьяволом схватывались больше поэты: за Пушкиным – Лермонтов, за Лермонтовым – Некрасов, за Некрасовым – Шевченко, а там Есенин, Блок, Маяковский, Цветаева, Ахматова, Пастернак, Мандельштам…
Разве – не убедительно?.. А тут на помощь поэтам пошли прозаики. Гоголь, Достоевский, Чернышевский, а там – Александр Грин, Андрей Платонов, Михаил Булгаков…
Казалось бы – такие небывалые перемены в мире, такое время, новое время, а по-прежнему: «дьявол силен!». Более того, он теперь неотлучно возле подлинного, страдальческого художника, неукоснительно опекает его творчество, под видом вечной истины навязчиво суфлируя ему временную и одномерную казенную истину…
Хотя бы уж один опыт нашей подлинно-страдальческой классики, лично-страдальческой творческой биографии – разве этого не достало бы Булгакову на его итоговый роман «Мастер и Маргарита»?
Можно здесь отчаянно поднять глаза к небу – почему дьявол (тот же, скажем, князь тьмы Воланд, у Булгакова) так терзает нас?.. Но в этом и честь нашей литературы! Не идет сатана туда, где нет самоотверженного правдоискательства, где нет подвига творчества во имя людей! Неинтересна ему такая литература, такие, с позволения сказать, – художники…
Стало быть, дело не в сатанинских силах жизни, которые, видать от природы, и, увы, бессмертны, как своеобразное препятствие-совершенствование нравственности. Дело в том, чтоб не иссякли ряды бойцов, готовых творчеством, во имя истины, во имя ее дальнего света, и, главное, во имя человека, всегда готовых схватиться – до конца – с дьяволом. Как это делали лучшие в нашей литературе – от Пушкина и Гоголя до Блока и Булгакова!..
У истока подлости
«Легенда о великом инквизиторе» в романе Достоевского «Братья Карамазовы» в сущности роман в романе. Во всяком случае, здесь план мыслительной основы такого романа. Но написать его можно бы не обязательно так, как его рассказывает Иван Карамазов, даже не так, как этого хотел бы Достоевский. Можно бы, например, повернуть острие мысли от прагматических бездн христианства, в изложении Ивана – в сторону психологических бездн души человеческой, связанных с подобным состоянием веры, когда общие усилия власти и религии всё-всё повергают в – страх… В тот страх, которому нужны костры и жертвы, когда уже нет человека, нет и самой веры, все развращено во имя уцеления или преуспеяния, есть лишь два тирана, король и инквизитор, снедаемые мыслью – кто кого последним отправит на костер. Ни один из них уже не может остановить стихию – и они же в ее власти. То есть, заняться не душой идеи христианства, в чистом ли виде, духовной веры, или конформированного и прагматического христианства в воплощении великого инквизитора – а душой человека посреди этих болезней общества, построенного на страхе, враждебного человеку, с кострами, жертвами, аутодафе… Сама же инквизиция виновата в том, что не был написан такой роман, причем по горячим следам костров и казней еретиков – а не по следам «материалов» и ретро-воображения.
Думается, в частности, так было б доказано, что фашизм не есть «порождение ХХ века», что всегда были у него общественно-политические предтечи в истории. Немецкий фашизм «всего лишь» тоталитарный масштаб, концентрированная насильственность, идеология и государственность все той же давней подлости, уже некая религия подлости! Десятки миллионов жертв – «всего лишь» увеличенный коэффициент бандитизма – уже в форме философии и государственности, власти и закона!.. Фашизм – таким образом – ничего общего не имеет ни с христианством, ни с социализмом, хотя больше всего ими прикрывался в «теории»! Он ничего общего не имеет с нормальным человеком вообще – его безумье вынести дано лишь ни в чем неповинному врожденному безумию, либо безумию тщеславия и самой ожесточенной подлости. То есть он – в чистом виде то бесовство, от которого предупреждали – прямо – Маркс, говоря про болезни, возможные в теории и практике социализма, то есть про «левизну» анархизма и терроризма, и – косвенно – Достоевский, говоря про экстремистов и авантюристов под видом «интернационала» – типа Верховенских и Ставрогиных, Шигалевых и Эркелей… Мы говорим о романе «Бесы» Достоевского. Можно лишь пожалеть о том, что социалистическое движение недостаточно внимательно отнеслось к этим вещим предупреждениям, в сущности об одном и том же, хотя вроде бы полярным в своих исканиях, гениев. Перед страшной ценой, которой было заплачено за эту историческую невнимательность – по разным причинам – право уже не кажутся столь полярными два гения, если оба, и тот, и другой, всегда были великими гуманистами!..
Крестовые ли походы, испанская инквизиция, гугеноты и католики, католики и протестанты, православие и раскол, суды, костры, рознь и вражда, резня и кровопролития, еврейские погромы и грузино-армянская резня… Все-все это – именем Бога, в угоду власть предержащим, и все это исторические предтечи фашизма, который многие и поныне готовы рассматривать как нечто неожиданное в истории человечества, в то время, как это было все тем же ожесточением власти и ее прислужницы – уже не «святой церкви» и «Господа Бога», а идеологии, ее политических эксцессов…
Фашизм – та тоталитарная законченность подлости, зачатки которой видим во всей прошлой истории, на самых ее мрачных страницах.
После Октябрьской революции и подъема всего мирового освободительного движения народов, их устремления к демократии и гуманизму, мирового кризиса 30-х годов и нестойкости капитализма перед идеями социализма – фашизм явился во имя спасения старого мира, как безумная, кровавая альтернатива рождавшемуся новому миру.
Фашизм – та же обманная идеология, которая обещает «камни обратить в хлебы», на деле же заливая кровью всю землю, превращая ее в сплошные каменные руины…
«Есть лишь одна проблема – одна-единственная в мире – вернуть людям духовное содержание, духовные заботы…» – сказал Сент-Экзюпери. Необорима эта духовность – если к ней, для своих обманных целей, прибегали и прибегают даже тираны, если даже Гитлер и Геббельс, призывая к массовым убийствам, поднимали очи горе, называя имя господне! Но что общего между убийством и духовностью? Надежда лишь на духовное чувство жизни у каждого человека на планете. И такой же, по образу и подобию, будет тогда и государственность у народов…
Но вернемся к «Легенде о великом инквизиторе». Знать, человечество, после кровавой бойни фашизма, второй мировой войны, развязанной фашизмом, куда лучше понимает художественные озарения Достоевского, чем его современники, видевшие здесь больше философские раздумья на темы христианства…
Великий Инквизитор, девяностолетний старец, вчера сжегший на аутодафе сто еретиков, заточивший в тюрьму самого Христа, явившегося на Землю, спустя пятнадцать веков после обетования «ее гряду скоро», чтоб «навестить детей своих», говорит своему арестанту: «Зачем же ты пришел нам мешать?.. Завтра же я осужу и сожгу тебя на костре, как злейшего из еретиков, и тот самый народ, который сегодня целовал твои ноги, завтра же по одному моему мановению бросится подгребать к твоему костру угли… Не ты ли так часто тогда говорил: «Хочу сделать вас свободными». Но вот ты теперь увидел этих «свободных» людей, – прибавляет вдруг старик со вдумчивою усмешкой… – Но знай, что теперь и именно ныне эти люди уверены более чем когда-нибудь, что свободны вполне, а между тем сами же они принесли нам свободу свою и покорно положили ее к ногам нашим. Но это сделали мы, а того ль ты желал, такой ли свободы?».
Иван Карамазов чем-то в суждениях своих схож с Великим Инквизитором. Он не верит в бога, но сознает его необходимость. Он сознает, что земные власти (административные ли, религиозные ли) не только не соответствуют идее Христа о свободном человеке, но осуществляют, посредством этой идеи, нечто противоположное, то есть – несвободу человека, которую лукаво выдают за свободу, полагая, что иное не позволит изначальная бездуховность человека! Таков «реализм» земных владык, которые и самим Христом не посчитаются («осужу и сожгу тебя»), если он вздумает помешать им – именем Христа, его духа святого (духовности) – утвердить насилие, раболепие людей, их несвободу, которую им выдают за свободу, антихристовую, бездуховную насильственную жизнь, называющую себя чуть ли ни царством Христа на земле! Иван не верит в бога, но вчуже очарован Великим инквизитором, признает единственно нужным для жизни, для ее устройства, насилие, право силы и лжи над раболепием «смрадно-греховных», «младенчески любящих» насилие людьми… Иван Карамазов – некий «кабинетный» фашист! Подобные теории всегда находят своих Смердяковых, которые, в свой черед ищут таких теоретиков – права на убийство!.. Иван не верит в человеческую совесть, лишась бога, лишается и всего человеческого. Он солидарен с Великим инквизитором: «Человек был устроен бунтовщиком; разве бунтовщики могут быть счастливыми?». Но Иван лишь теоретический Великий инквизиторов, практически он сам бунтовщик, против Бога, и он сам несчастен…
Иван высказывает и заветные мысли бывшего социалиста Достоевского по поводу новых теократических идеалов устройства общества.
«Страшный и умный дух, дух самоуничтожения и небытия» (у которого, мол, не просто «текущий человеческий ум», а «вековечный и абсолютный») задает Христу – еще в пустыне – три вопроса (по сути – три совета, которые он отверг). Первый – «Ты хочешь идти в мир и идешь с голыми руками, с каким-то обетом свободы, которого они, в простоте своей и в прирожденном бесчинстве своем, не могут и осмыслить, которого боятся они и страшатся, – ибо ничего и никогда не было для человека и для человеческого общества невыносимее свободы! А видишь ли сии камни в этой нагой раскаленной пустыне? Обрати их в хлебы, и за тобой побежит человечество, как стадо». На что Христос и ответил – «не хлебом единым»; он хочет, чтоб и в вере человек был свободен! Христа Великий инквизитор пугает: «Знаешь ли ты, что пройдут века и человечество провозгласит устами своей премудрости и науки, что преступления нет, а стало быть, нет и греха, а есть лишь только голодные». И далее пугает Христа: «На месте храма твоего воздвигнется … вновь страшная Вавилонская башня… Они отыщут нас… И возопиют к нам: «Накормите нас!.. Лучше поработите нас, но накормите нас». «Поймут наконец сами, что свобода и хлеб земной вдоволь для всякого вместе немыслимы, ибо никогда, никогда не сумеют они разделиться между собою! Убедятся тоже, что не могут быть никогда и свободными, потому что малосильны, порочны, ничтожны и бунтовщики… Они будут дивиться на нас и будут считать нас за богов за то, что мы, став во главе их, согласились выносить свободу и над ними господствовать – так ужасно им станет под конец быть свободными! Но мы скажем, что послушны тебе и господствуем во имя твое!».
Границы «трех вопросов», впрочем, размыты обычным для Достоевского клокотанием мысли. Второй вопрос, надо полагать – после того, как Христос отверг первый, «во имя свободы и хлеба небесного» – в том, что у людей есть «потребность общности поклонения» и это «главнейшее мучение человека… и человечества». Стало быть, нужны: «чудо, тайна, авторитет». Христос и это отвергает, он не желает поработить человека чудом, он жаждет все той же свободной веры. Великий инквизитор ему доказывает, что «человек слабее и ниже создан, чем ты о нем думал!.. Уважая его менее, менее бы от него и потребовал, а это было бы ближе к любви, ибо легче была бы ноша его. Он слаб и подл… Неспокойство, смятение и несчастье – вот теперешний удел людей после того, как ты столь претерпел за свободу их!».
Наконец, «третий вопрос»: «Потребность всемирного соединения есть и третье и последнее мучение людей». Христу предлагается основать всемирное царство – «принять миф и порфиру кесаря». «Все буду счастливы и не будут более ни бунтовать, ни истреблять друг друга, как в свободе твоей, повсеместно. О, мы убедим их, что они тогда только и станут свободными, когда откажутся от свободы своей для нас и нам покорятся». «Все будут счастливы, все миллионы существ, кроме сотни тысяч управляющих ими. Ибо лишь мы, мы, хранящие тайну, только мы будем несчастны».
Так – по Ивану, не по Достоевскому – «исправляется» «несчастными» земными владыками «подвиг Христа»!