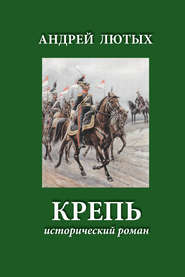скачать книгу бесплатно
В хату вошел запыхавшийся чумазый мальчик лет одиннадцати, Айзик, сын местного корчмаря. Он остановился в дверях, с трудом переводя дыхание, будто заяц, только что петлявший по полю, унося ноги от собак.
– Что, опять что ли в усадьбу кличут? Не пойду! – недовольно пробасил Василь.
– И не ходите, дядя Василь, – совсем по-взрослому заговорил парнишка, – мой папа велел тебе сказать вот чего: ты этой зимой за него заступился и не дал паршивцу Самусю уворовать у нас с телеги мешок рыбы, когда папа пошел в корчму, чтобы рассчитаться с рыбаком, а ничего нельзя оставить без присмотра ни на минуту! Так вот и он тебе теперь скажет одну вещь, чтобы тебя выручить. В усадьбе только что человека убили насмерть – приезжего, и господа взяли и решили, что это сделал ты. Может, спьяну они так подумали, потому что картавый пранцуз говорил так громко, что мой отец смог все услышать. За тобой уже людей посылают, так папа велел тебе сказать, каб ты уходил, потому что лучше, чтоб тебя не нашли, чем перед ними оправдываться и не оправдаться. А завтра тут будет полиция из уезда, вот что, дядя Василь.
– А людцы, да что ж это делается? Василь, да что это? Да неужто ты грех взял? – заголосила жена Василя Анна, у которой сейчас же на глазах появились близкие бабьи слезы.
– Да не убивал я никого! – прокричал Василь. – Ну, паночки, ну, спасибо вам за ласку! То катают в бричке, белой булкой угощают, денежку дают, то руки крутят, в склеп запирают, то домой отпускают, а теперь кажут – ты убийца!
– Беги, Василь, – поднялся с полатей отец, – малой верно кажет: убивал, не убивал – а перед панами не оправдаешься, ты простой мужик. Пока сховайся в лесу подальше, а там видно будет – вдруг найдут настоящего злодея.
Против мудрости старших не принято было возражать. Анна, слезы у которой высохли так же быстро, как и появились, уже суетилась, собирая мужу в узелок нехитрую снедь – все, что можно было найти в доме.
– От, паночки! – ругался Василь, засовывая за пояс топор и набрасывая на плечи старую свитку. – Наградили «за верность государю»…
Он замолчал, перекрестившись на икону, и взял из рук жены узелок. Голодным тоскливым взглядом посмотрел на нее, еще красивую, два года назад родившую ему третьего сына, в одной рубахе с распахнутым воротом, с налитой грудью, теплыми, любящими глазами, и сердце у Василя облилось кровью. Жена робко прильнула к нему, он свободной рукой обнял ее за плечи. «Сейчас бы тот двугривенный им, верно, гайдук, собака, подобрал! – думал Василь. – А сыны спят… Пусть».
Айзик уже выбежал во двор.
– Иди, Василь, не ровен час, придут за тобой, – поторопил отец.
Василь обнял его, поцеловал мать и уже с порога сказал:
– Я на монашьем болоте сховаюсь. Как-нибудь ночью приду. Что я тут был, никому не говорите, как на сгон уехал – так вы меня и не видели.
И, не задерживаясь больше ни на секунду, он вышел из хаты. Лунный свет был неверным и загадочным. Словно спасительный пот земли, собиралась в густой траве предрассветная роса.
Бегство Василя послужило для тех, кто знал об убийстве Зыбицкого, подтверждением его виновности. Пожав плечами, согласился с этой версией и уездный исправник, прибывший в Старосаковичи с командой гарнизонных инвалидов и приказом задержать этого самого художника Зыбицкого. Что «…оказалось совершенно невозможным по причине обезглавления онаго посредством нанесение удара большим вострым мечом, коий для доказательства мною изъят у помещечьего сына Саковича Алеся, а означенный для задержания господин Зыбицкий ко времени прибытия моего в усадьбу оказался совершенно мертвым и отнесенным в склеп. Там же и его голова, каковую вместе с туловищем и пашпортом на фамилию Зыбицкий доставил я в уезд для проведения дальнейших следственных действий».
Исправник, появившийся в усадьбе не с утра, а ближе к вечеру, Тарлецкого там уже не застал. Очень коротко, учитывая обстоятельства, простившись с Ольгой, но пообещав молодым Саковичам очень скорую новую встречу, тот, сославшись на служебные дела, спешно уехал в Белыничи. По пути он заехал в Клевки, где без всякого на то права учинил арендатору беспощадный разнос за плохое ведение хозяйства и обнищание людей.
А на Василя был объявлен розыск. Исправник даже велел Алесю привлечь людей из шляхетской слободы и устроить у него дома засаду.
Глава 7
Счастливое село
Пан Константин с двумя своими слугами Тарасом и Амиром всю ночь скакали по освещенной полной луной дороге на Игумен. У пана Константина была причина торопиться: из Игумена Тарас должен был отправиться в Вильно и доставить в штаб русской армии жалобу на майора Тарлецкого раньше, чем тот сам вернется туда.
Черный лес по обеим сторонам дороги был непроницаем и грозен. На случай встречи со зверем или лихим человеком к седлам были приторочены кобуры с заряженными пистолетами, и даже саблей был вооружен не только пан Константин, но и Амир. Страшнее всего была рысь, которая с нависающих над дорогой еловых лап прыгает на спину путнику и быстро находит его горло. Надеялись на коней, которые своим животным чутьем предупредят об опасности.
Утром, чтобы дать передохнуть коням и подкрепиться самим, ненадолго остановились в придорожной корчме. Отдохнув часок на соломе, всадники продолжили путь и около полудня недалеко от Игумена свернули в деревню Тростяны, где жил знакомый пану Константину еще с прежних времен, когда они вместе бывали на сеймах, помещик Адам Глазко. Тут пан Константин хотел переждать самое жаркое время дня, накормить коней и написать ту самую жалобу на Тарлецкого, с которой должен был отправиться в Вильно Тарас.
Тарас был родом из этой деревни. Однако по мере приближения к Тростянам на его круглом румяном лице с веселыми озорными глазами не появлялось выражения радостного оживления, наоборот, Тарас становился непривычно суровым. Пан Константин знал, чем объясняется смена настроения его слуги. Он ни о чем не спрашивал, а Тарас лишь сдвинул белые брови и молча сжал зубы, когда увидел, как несколько тощих бесштанных детишек вылезли из оврага и принялись, обжигаясь, рвать крапиву, росшую по его краям.
И все в этой начинавшейся за оврагом деревне было как-то кривенько, и даже крапива, которую дети понесут матери, чтобы хоть чего-то сварила поесть, была какой-то не сильно сочной. Тарас помнил, как в его доме пекли хлеб с примесью мякины и всякой всячины – иногда даже с толченой молодой корой. Хлеб становился черствым сразу, как только его вынимали из печи, но все же съесть ломоть побольше почиталось за счастье.
Собственно, пока Тарас по счастливому случаю не был подарен пану Саковичу, он полагал, что живут они в Тростянах вполне нормально, даже хорошо. Жители села делились на селян, которые работали и пили хлебное вино, и таких же селян, которые пили хлебное вино и следили за тем, чтобы первые работали, слушались пана, и не дай бог не удрали из Тростян к казакам на Украину или просто к другому пану. Этих пан поназначал своими псарями, тиунами, десятниками, некоторым даже выправил грамоты о шляхетстве. Каждое воскресенье в корчме (а в Тростянах было целых две корчмы) эти бездельники рассказывали селянам о том, как они защищают их луга и посевы от наездов алчных и бессовестных соседей, желающих погибели их доброму пану. Наезды и в самом деле были, только чаще со стороны пана Адама на соседей – свою оголтелую челядь нужно было иногда чем-то занять. Зная дурной нрав и многочисленность «тростянских разбойников», которых пан Адам мог поставить под ружье, соседи предпочитали с ним не связываться. Порой, истощив собственные погреба и исчерпав кредиты, пан Адам вдруг мирился с кем-то из соседей, приезжал с сердечными заверениями в вечной любви, чтобы погостить и погулять за счет вчерашнего недруга.
Шляхетство у Тростянских шарачков было липовым, дворянские грамоты и родословные поддельными. Впрочем, и благородное происхождение самого Адама Глазко однажды было поставлено под серьезное сомнение. Кто-то из оскорбленных его выходками соседей даже довел дело до разбирательства в Вильно на сессии Литовского трибунала. Тогда-то Тарас и стал слугой судьи Саковича, оказавшегося депутатом того трибунала, и взявшим сторону пана Адама, но вовсе не ради его благодарности, а потому что показания против него оказались лживыми.
Тарас не понимал, что общего может быть у благородного пана Константина, его нынешнего хозяина, с этим пьяницей и кровососом Глазко, и списывал эту дружбу только на то, что пан Константин просто мало знает тростянского помещика. Впрочем, не его это было дело, и он, конечно, помалкивал. А вот за «козью морду», с которой Тарас въезжал в Тростяны, можно было и бизуна получить от пана. Чтобы отогнать дурное настроение, в котором Тарас и сам не привык долго пребывать, он принялся подначивать татарина Амира:
– Ты бы, Амир, пока не поздно, сховался в овраге, – на полном серьезе сказал он. – Не любят здесь вашего брата. За то, что вам вера не позволяет горелку пить. Вон у корчмы привяжут к столбу и будут горелку в рот заливать, пока пьяные песни не заорешь, или свинины не попросишь, или душу не отдашь аллаху.
Амир, ловчий пана Константина, во внешности которого до сих пор не проявлялось ничего мусульманского, после слов Тараса вдруг резко превратился в эдакого Чингисхана. Он приосанился в седле, отчего, казалась, с его одежды, как с отряхнувшейся собаки, слетела пыль, стали яркими его красные штаны и рубаха, маленькие острые глаза на круглом лице сузились, а короткие тонкие усы вытянулись струной. Весь его вид словно говорил: «Ну, кто здесь хочет привязать меня к столбу? Попробуйте только!» Рука Амира даже легла на эфес очень сильно изогнутой турецкой сабли.
– Амир, на что тебе серп? Жниво еще далеко, – продолжал подначивать Тарас.
– Твой длинный язык надо привязать к этому столбу, – огрызнулся Амир, не глядя на Тараса.
Тот усмехнулся в ответ, но внутри его передернуло – ему уже приходилось быть привязанным к этому столбу у корчмы. Однажды зимой он возвращался из Игумена, где зарабатывал деньги для оброка у купца, строившего себе новый дом. По дороге, чтоб согреться, купил бутылку горелки. Выпить в чужой корчме было для тростянских тягчайшим преступлением против пана, отправлявшего на собственную винокурню едва ли не половину урожая зерна. Селянам строго была установлена норма – сколько нужно выпить в своей корчме за год или заплатить пану специального налога, если ты непьющий. Чтобы кровные грошики не пропадали, конечно, предпочитали пить. На беду сразу у въезда в село Тарасу тогда встретился войт, который учуял от молодого паренька запах, нашел под свиткой початую бутылку. Собрали народ.
Стыда, оттого, что тебя раздели на глазах у всех, не было – человек, родившийся под паном, рождался без стыда принимать от пана наказание. Было очень страшно. Было удивление оттого, что ледяная вода сначала обжигает, и словно горячим клеймом в тело, ледяными струями в уши врывались слова, которые приговаривал экзекутор: «Купляй у своего пана!»
Тарас потом лежал в горячке, чуть не умер. Однако ничего, оклемался, и даже выпивать не бросил, только холода стал бояться. Зная это, добрый пан Константин за службу подарил ему очень теплый старый тулуп своего покойного эконома, в котором Тарас с удовольствием ходил зимой.
Жилище тростянского помещика в сравнении с усадьбой Саковича, пожалуй, сошло бы лишь за хозяйственную постройку. Это был чудом до сих пор не сгоревший деревянный дом с горбатой гонтовой крышей, похожий на барак. Фасад усадьбы украшало лишь крытое крыльцо с двумя засаленными столбами. Дом был явно перенаселен: вместе с паном Адамом здесь жили его жена, брат Мартын, старуха мать, две дочери и три сына, старший из которых сам уже был женат, а младшему исполнилось только десять лет. Сюда можно было добавить нескольких шарачков – постоянных собутыльников пана Адама и предполагаемых женихов его весьма непривлекательных дочерей. Немногочисленная дворня, надрывавшаяся, выгребая из углов дома грязь и блевотину, давно была выселена в сараи.
Проехав запущенный сад, всадники увидели самого пана Адама. То, что он выиграл в трибунале дело по поводу своего шляхетского происхождения, было, конечно, его большой удачей – внешне на благородного патриция голубых кровей тростянский помещик никак не тянул. Даже ростом не вышел. Маленький, тщедушный, но пузатый, с раздуваемой ветром лопастью редких волос, с красным одутловатым лицом, с мешками под злыми похмельными глазами. В старом халате и комнатных туфлях на босу ногу он стоял на крыльце, с которого только что помочился, и за что-то ругал мужиков, вернувшихся с покоса. Увидев пана Константина, он быстро дошипел свою гневную тираду и заговорил елейно-ласково:
– Ступайте работать и молите бога, что ко мне дорогой гость пожаловал, а то бы я вас… День добрый, пан Константин! Не часто таких гостей встречаю, добро пожаловать!
Пан Адам попытался принять подобающую осанку, но состояние его было болезненным, и он как-то боком спустился с крыльца, чтобы обнять гостя. Мужики поспешно уходили со двора, боясь задержаться даже для того, чтобы перемолвиться словом с Тарасом, земляком, которого давно не видели. Тот принял поводья из рук своего барина и сам постарался встать так, чтобы пан Адам его не видел за шеями коней. Но пану было не до него, он уже захлебывался от злости на замешкавшегося на секунду холопа, которого он подзывал, чтобы приказать бить гусей и немедленно накрывать на стол.
– Какая радость для всех нас, – хрипловатым голосом сказал он, вновь обращаясь к Саковичу, – чему я обязан этой радостью?
– Радостного тут мало, – улыбаясь, ответил пан Константин. – Мне пришлось бежать из собственного дома.
– Что же случилось? – всерьез испугался Глазко.
– Приехал ко мне один москаль, майор, и стал мне говорить, что я преступник, заговорщик, и что он может отправить меня в крепость, а имение мое забрать, но по своей доброте и благорасположению ко мне этого не сделает. А сам уже вызвал в имение солдат! – пан Константин старался говорить это шутливым тоном, но скрыть за ним раздражение ему не удавалось. Оно откровенно проявилось, когда он добавил: – Но страшного для меня, пан Адам, ничего нет, я сам так упеку этого наглого выскочку, что он проклянет день, когда приехал ко мне в Старосаковичи и посмел мне угрожать! Его накажут его же командиры, когда я напишу о его воровских делах. Я, собственно, и приехал к тебе, чтобы написать письмо и немного отдохнуть. Я еду в Несвиж, к Радзивиллам.
– Да-да, пан Константин. Когда нам угрожают, приходится искать покровительства у сильных. Так вы спешите в Несвиж? Но ведь это не помешает дорогому пану судье хотя бы отобедать у меня?
– Конечно, не помешает. Но прежде я хотел бы написать и отправить письмо. Распорядись, чтобы накормили моего слугу, он поедет с письмом в Вильно.
– Сделайте милость, пан Константин, пойдемте в мой кабинет, все, что вам нужно, сделаем, – сказал пан Адам, радостный от ожидания скорого застолья.
Длинный дубовый стол распоркой тянулся от стены до стены самого большого зала в доме, и все же многочисленным домочадцам и нескольким гостям Адама Глазко было за ним тесновато. Вино и горелка лились рекой, которая несла вовсе не прохладу, а некое ядовитое болотное марево в эту душную гостиную, где было жарко, несмотря на раскрытые настежь окна. Одна за другой поднимались здравицы в честь знатного и богатого гостя, которого пан Адам представил чуть ли не магнатом. Блюда не убирались со стола, но то и дело подавались новые, и вскоре весь стол был заставлен всяческой снедью, которую крестьяне, из которых все это высасывалось, не видели даже по большим праздникам. Срочное дело было сделано – Тарас уже ехал в Вильно с только что сочиненным доносом, поэтому Сакович мог себе позволить поднимать кубок, тем более что вино никогда не лишало его разума.
– Я слышал, что Доминик Радзивилл покинул Несвиж и уехал в Варшаву, – прямо в ухо, чтобы не надрываться, стараясь перекричать подгулявших гостей, сказал Саковичу пан Адам.
– Это так, – ответил Сакович. – И он посадил на коней и вооружил там целый полк. Я знаю, что скоро пан Доминик вернется, и тогда Радзивиллы снова станут в Литве теми, кем они были. А не помещиками «Минской губернии», у которых плюгавый московский чиновник может описать маемость. А пока пана Доминика нет, его замок открыт для таких, как я. В Несвиже меня всегда укроют, если вдруг этому майору действительно очень захочется упрятать меня в темницу.
– Вы так осведомлены, пан Константин. Вы верно знаете, что Радзивиллы придут сюда с войском?
– Я вчера получил письмо от сына. Он теперь капитан в легионе Вислы, он тоже придет сюда, и если пан Бог будет милостив, я смогу обнять своего Павла!
– Значит, будет война, пан судья?
– Будет, пан Адам. И теперь не время пировать. Бери саблю и садись на коня, возьми с собой брата и поехали со мной, встанем под Литовские хоругви! Я пятнадцать лет ждал этого… – хлебное вино и жара делали свое дело. Каким бы крепким не был пан Константин, а и у него по щеке прокатилась пьяная слеза.
– Но я не хочу войны! Сейчас я здесь хозяин без всякой хоругви, а кто будет хозяином, когда тут будут скакать голодные солдаты на голодных конях? Их голодное брюхо будет здесь хозяйничать!
– Сейчас здесь хозяин не ты, а москали. Ты их голодных солдат кормишь, и хлопцев своих в рекруты даешь, и на сгоны людей даешь… И приговор теперь тебе чинить будет не судья Сакович, а губернатор, которого сюда царь назначит.
– Москалю только дай денег, и он не мешает. Я у себя все приговоры сам чиню, и для этого быдла я и магнат, и царь, и бог! Москалей мне и дурить легче (знаешь, сколько я им покотельщины недоплачиваю?), а с их попом можно и за чаркой поговорить.
– Так тебе не нужна наша вольность, как при Речи Посполитой, когда ты мог короля выбирать?
– Вольность? Варшаве Наполеон вернул вольность. Теперь у этих гордых вольных поляков поля позарастали бурьяном, казну разворовали, по мне уж лучше москали.
– Эх, пан Адам, ошибся я тогда в трибунале. Ты и верно, не шляхтич! – с горькой решимостью сказал пан Константин, но, по счастью, Глазко его уже не услышал, иначе могли кинуться сечь саблями «дорогого гостя» всей пьяной оравой, дуэльных правил здесь не придерживались. Ничем не успел бы помочь и Амир, стоявший у дверей с каменным трезвым лицом.
– Танцевать! Танцевать! Музыку! – кричали со всех сторон, заглушив реплику пана Константина, и молодые люди, опрокидывая стулья на снующих под ногами собак, подхватились из-за стола скорее приглашать дам – двух дочерей, невестку и жену пана Адама, которая сохранилась несколько лучше своего супруга. В зале появились музыканты с постными вытянутыми лицами.
– Сейчас увидишь, дорогой пан Константин, как мой маленький Петрусь играет на скрипочке! – с восторгом заговорил пан Адам. – Такой хороший мальчик! Такой маленький вельможа. Никакой учебой его не мучаю, чтобы только здоровью его не пошкодить, только со скрипочкой играет.
Ударил бубен, заиграла гармошка, к ней присоединилась дудка, десятилетний младший сын пана Адама подхватил скрипку, и зазвучала мазурка. Танцующие скакали, обливаясь потом и словно подбрасывая взмахами рук к потолку клубы нестерпимо жаркого воздуха. Дожидаться вечерней прохлады у них не было терпения – в первый час попойки время тянется медленно и лишь потом начинает лететь, сливаясь в размазанное полотно лиц, предметов, поступков. Мазурка закончилась, и сразу заиграла полька, танцующие в тесном зале то и дело налетали на стол, заставляя невольно вздрагивать Саковича. Пан Адам настойчиво кричал ему в ухо что-то про своего славного Петрусика, который сосредоточенно двигал смычком, изображая игру. На его скрипке не было даже струн, а играл за него, тоже весьма фальшиво, музыкант, спрятавшийся за буфетом.
Сакович покачал головой и, не пытаясь больше спорить с захмелевшим хозяином, осушил свой кубок. Старые подгнившие половые доски с усталым скрипом ходили ходуном, подрагивали массивные подбородки дочерей пана Адама, и в такт им звенела оставленная на столе посуда…
На третий день пути уже перед закатом пан Константин Сакович приехал в Несвиж. Древнее гнездо князей Радзивиллов встретило его спокойствием и уверенностью, передавшейся и ему, как только он проехал через арку мощных Слуцких ворот. Казалось, Москва не оказала и не могла оказать никакого влияния на эту вотчину могущественнейших магнатов прежнего Великого Княжества Литовского, хоть формально и сделала Несвиж заштатным городком Слуцкого уезда. И только самим князьям пришлось покинуть свое имение, так же как и пану Константину Старосаковичи.
Перед величественным иезуитским костелом, служившим фамильной усыпальницей Радзивиллов, пану Константину пришлось остановить коня, чтобы пропустить странную процессию, преградившую ему дорогу: несколько доминиканских монахов в мешковатых нищенских рясах, один из которых исступленно бил в барабан (такие барабаны прежде собирали под стяги личные войска Радзивиллов), возглавляли толпу возбужденных гимназистов лет тринадцати-пятнадцати. Они шли за монахами несколькими рядами. Некоторые пытались чеканить шаг, другие поднимали над головами шесты с привязанными к ним пестрыми платками, видимо, изображавшими знамена.
– Прочь иноверцев! Возродим Речь Посполитую! Под знамена императора! – развязно выкрикивали мальчишки.
– Яну-Генрику Домбровскому… – подавал голос один, самый горластый.
– …Ура! Слава! – азартно подхватывал хор молодых несформировавшихся голосов, и вздрагивали уши у коня пана Константина.
– Пану Понятовскому!..
– Ура! Слава! Сто лят!
– Радзивиллам…
Совсем недалеко катались на лодках с барышнями по замковому пруду несколько русских офицеров из размещавшейся здесь артиллерийской роты. Они делали вид, что не понимают по-польски, и к берегу не причаливали.
Кроваво-красный солнечный диск, отражаясь в пруду, прятался за крышей дворца Радзивиллов, окруженного рвами и старыми бастионами.
Шесты с платками во время скандирования метались из стороны в сторону, кружась в руках раскрасневшихся юнцов, как беспомощные конечности механического пугала. Неровные глухие удары барабана…
Пан Константин с трудом удерживал на месте коня, пытающегося пятиться назад. «Видно, я не ошибся, приехав сюда. Скоро, скоро начнется!» – подумал он.
Глава 8
Особенная канцелярия
Тарлецкий, переживший за одни сутки столько приключений, очень надеялся на то, что все как-нибудь обойдется. Но предчувствия были нехорошие, и в Вильно он возвращался с тревожным настроением. Перед этим в Минске он целый день делал вид, что пересчитывает мешки с зерном в тамошнем богатом армейском магазине, на самом же деле он то сочинял каламбур, в котором имел полное право рифмовать «любовь» и «кровь», то думал о том, как будет оправдываться, ежели что-то станет известно начальству. На всякий случай даже написал подробный рапорт.
Не обошлось. Тарлецкий понял это уже по тому, как посмотрел на него Егор Францевич, к которому он зашел с обычным докладом по возвращению в Вильно. Взгляд генерал-интенданта был похож на тот, каким он встретил Тарлецкого в день, когда сообщил о предстоящей тому «варшавской миссии». Эта отстраненность во взгляде у русского гессенца появлялась после общения с кем-то или очень высоким, или очень таинственным. По тому, как он прятал глаза сегодня, чувствовалось, что генерал-интендант должен сказать Тарлецкому что-то не только секретное, но и очень неприятное. Не став слушать доклада, он огорошил Тарлецкого известием, что тому надлежит сдать дела.
К такому крутому обороту у Тарлецкого ничего не было подготовлено, и пока он молча стоял, как рыба хватая ртом воздух, Егор Францевич пояснил хоть что-то:
– Что ж вы, милостивый государь? Заигрались. Обидно – такой ум, такая хватка! Впрочем, это только молодость. Бог даст, все еще у вас устроится. По мне довольно того, что тот хлебный обоз, по поводу коего написана Борисовского уезда помещиком жалоба, в нашем гродненском магазине, и деньги за него из казны на сей день не выписаны. Однако жалоба, и другие известные вам обстоятельства… Теперь уж не я решаю.
– Что же со мной будет, Егор Францевич? – пробормотал Тарлецкий вместо всех приготовленных для этой встречи хитрых отговорок.
– Не знаю, милостивый государь. Будем полагать, что дела вы сдали мне лично, а теперь ступайте к себе на квартиру и ждите.
– Ждать на квартире? А долго?
– Полагаю, нет. Не смею более задерживать. Дела! Государь пожаловал третное жалование офицерам всех полков, участвовавших во вчерашнем смотре, вы-то знаете, какая это для нас головная боль…
Его более не задерживали… Тарлецкий на каких-то ватных ногах шел по булыжной мостовой, свернул в свою не мощеную с подсохшими лужами во всю ширину улочку, ведущую в сторону Рудницких ворот, в сердцах пнул перебегавшую дорогу ни в чем не повинную курицу. Отставка. Конец карьеры. Так неожиданно, как, наверное, смерть на войне. Тарлецкий поднял голову на многочисленные колокольни костелов и церквей, и только теперь услышал, что они звонят, и этот звон ему показался похоронным. «Зайти в церковь? После. Велено ждать на квартире, – мелькнуло в голове, и вместе с этим пришла первая обнадеживающая мысль: – Ведь если бы хотели казнить по военному положению, или там в солдаты, то взяли бы под стражу прямо там, в главной квартире.
Значит, что-то другое. А может быть, воспользоваться неопределенностью и бежать? В Варшаву! Нет, вот за это точно расстреляют»…
Тарлецкий, вытянув шею, посмотрел в оба конца кривой улочки – не следят ли за ним. Ничего подозрительного. И вообще он стоял уже у порога своего дома.
Найти сносную квартиру в небольшом Вильно, перенаселенном армейскими и гвардейскими офицерами, офицерами свиты Его Императорского Величества, было непросто даже для Тарлецкого при всей его близости к квартирмейстерским. Так что он мог быть доволен комнатой во втором этаже каменного дома, под окнами которого недавний крестьянин Игнат успел посадить редиску и еще какую-то зелень. И это всего в десяти минутах ходьбы от губернаторского дворца, в котором была нынешняя квартира самого Государя. Тарлецкий вошел в крохотный дворик. Игнат дремал здесь на привезенных из Минска мешках с овсом, и своей перевязанной головой еще раз напомнил Тарлецкому о приключившемся с ним несчастье. Велев денщику сделать чаю, Тарлецкий по наружной деревянной лестнице поднялся к себе. Конечно, по такому случаю предпочтительнее была бы кружка рому (отличный ром привезен был из той же последней инспекции) но, не зная, до каких пор и чего вообще предстоит ему дожидаться, откупорить бутылку Тарлецкий не рискнул.
К счастью, дожидаться пришлось недолго. Игнат даже самовар не успел вскипятить. Только пришел не какой-нибудь здоровенный усатый гвардейский кирасир с высочайшим повелением, а чумазый мальчишка еврей, который взялся проводить господина майора на квартиру, где его ждут. Ничего не понимая, но преисполнившись решимости испить чашу унижения до конца, Тарлецкий смахнул единственную пылинку со своего новенького майорского мундира и отправился вслед за мальчуганом. Благо, идти было совсем недалеко – на Немецкую улицу, до спрятавшегося за густой листвой тополей и каштанов двухэтажного дома, совсем незаметного в ряду более основательных купеческих домов. Без особого удовольствия вручив своему проводнику копейку, Тарлецкий остановился у дверей, за которыми, очевидно, должна будет решиться его судьба.
Из мистического оцепенения его вывел молодой подполковник Свиты Его Императорского Величества по квартирмейстерской части, который из этих дверей вышел. Лицом с вполне доброжелательным выражением он даже немного был похож на Его Императорское Величество – бакенбарды, узкий подбородок, умные глаза, хотя благородства, конечно, поменьше, чем у Государя. Тарлецкий, как водится, поднес левую руку к шляпе.
– Тарлецкий? Что же вы не заходите, вас ждут, – ответив на приветствие, сказал подполковник и быстро, не дождавшись невнятного вопроса Тарлецкого «… а в каком кабинете?», удалился в сторону Ратушной площади. Следовало решаться.
Ни у дверей, ни за ними не было охраны. Деревянные ступени с углублениями от примерно полувекового употребления вели во второй этаж, в первый, очевидно, попасть можно было только со двора. А во втором уже и дверь была открыта. За ней была обычная обывательская комната с кроватью и платяным шкафом, но основное место в ней занимал большой чистый письменный стол с изысканным чернильным прибором, прижимавшим отгибающийся уголок знакомого Тарлецкому красочного полотна, изображающего переправу через Березину.
Из-за стола поднялся молодой человек с абсолютно непримечательной внешностью, разве что карие глаза могли запомниться из-за весьма проницательного взгляда, который, Тарлецкий, как будто уже когда-то встречал. Это был статский, причем, не переодетый в цивильное офицер, каковым нередко представал сам Тарлецкий. По выправке и манерам это был именно статский – чиновник, который, учитывая его пусть не юный, но все же весьма молодой возраст, никак не мог быть выше Тарлецкого в Табели о рангах, если это не какой-нибудь княжеский отпрыск. Однако такого впечатления встретивший Тарлецкого господин не производил, слишком прост. Если бы на нем хотя бы был чиновничий мундир, можно было бы определить его ранг по количеству и ширине галуна, так нет, молодой господин был одет как обычный городской обыватель.
– Добрый день, Дмитрий Сигизмундович, – заговорил он, тем не менее, очень уверенно, – меня вы можете называть Александр Леонтьевич, а то, я вижу, у вас затруднения, как ко мне обратиться, к докладу, верно, готовились.
– Очень рад знакомству… – пробормотал Тарлецкий, так и не понявший, как же следует обращаться с этим Александром Леонтьевичем.
– Правда? – сделал вид, что обрадовался, тот. – Так сделаем наше знакомство приятным. И никакого доклада не нужно. Только в рапорте все изложить придется, подробненько так, обстоятельно…
– А кому адресовать рапорт? – спросил Тарлецкий. Александр Леонтьевич в ответ засмеялся.
– А мы в вас не ошиблись! Умеете вы инициативу перехватить. Это вам интересно, что же за ведомство вами распоряжается, когда генералинтендант принял вашу отставку… Я ваше любопытство удовлетворю несколько позже. Вы пока просто напишите: «По обстоятельствам моего пребывания на переправе через реку Березина и в селе Старосаковичи могу пояснить следующее…» и далее в таком роде.
– Я уже подготовил такой рапорт, – сказал Тарлецкий, которому почему-то не становилось спокойнее от казавшегося доброжелательным тона собеседника.
– И верно, мы в вас не ошиблись. Коли рапорт при вас, давайте я его прочитаю прямо сейчас. Мне нравится ваш штиль. Кофе будете? Присаживайтесь.