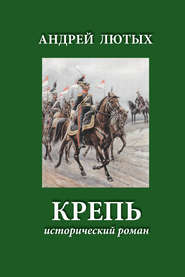скачать книгу бесплатно
– И что же? – повторил свой вопрос Сакович.
– Я не сделал этого.
После этой эффектной фразы надменный шляхтич уже не казался таким невозмутимым. Ему пришлось-таки произнести реплику, которую приготовил для него этот развязный незваный гость:
– Почему?
Тарлецкий ответил не сразу, словно наслаждаясь моментом своего триумфа. А ведь он выложил на стол пока только первую карту из приготовленного им покера.
– Потому что, ежели бы я сие сделал, мне неизбежно пришлось бы совершить и следующий шаг, после которого вы не отделались бы временной высылкой куда-нибудь в Пензу. Путь лежал бы дальше и, боюсь, навсегда. А ваши дети остались бы без средств к существованию.
На это громкое, но пока голословное заявление Сакович не ответил.
Впрочем, его реплика и не была здесь обязательной. Ему пока была отведена роль слушателя, которому приходится медленно водить головой то влево, то вправо, потому что Тарлецкому удобнее было продолжать свою речь, поднявшись с кресла и расхаживая перед ним по залу.
– Очень хорошо, что вы судья, и как человек, сведущий в юриспруденции, меня поймете. То, что ваш старший сын незаконно бежал за границу, вы отрицать не можете – он не возвращается вот уже шесть лет. Указом, объявленным в декабре 1809 года, таким как он отводилось шесть месяцев на то, чтобы вернуться. Поскольку он не вернулся, вы уже сейчас не можете ни продать, ни подарить ваше имение, потому что после вашей смерти (желаю вам еще сто лет здравствовать!) доля вашего сына должна отойти государству.
Пан Сакович сжал скулы. Он не мог об этом не знать.
– Право, не понимаю, почему вы, законник, не уладили эту ситуацию, как это сделали другие, – оживленно продолжал Тарлецкий. – Ваш сын мог вернуться в отведенные месяцы хотя бы на неделю, чтобы получить объявленную указом амнистию, и когда секвестр с имения был бы снят, сделать формальный отказ от своей доли в наследстве. Потом он снова мог бы уехать куда ему заблагорассудится, разумеется, «без вашего согласия» – изымать у вас государству было бы уже нечего…
– Такое ловкачество недостойно шляхтича.
– Уважаю. Правда, уважаю гордость истинной польской шляхты. – Тарлецкий сделал серьезное лицо, а сам при этом подумал: «Так я и поверил в твое благородство! Просто в эти шесть месяцев твой сын был слишком далеко, чтобы вернуться – в самой Испании!»
– Я не польский шляхтич.
– Ах, да, наслышан: вы из диссидентов – шляхты некатолического исповедания. Если смотреть буквально, то и я отношусь к этой «ложе», только не греко-римской веры, как вы, а греко-российской.
Почувствовав, что его шутка не понравилась пану Саковичу, Тарлецкий поспешил вернуть разговор в прежнюю «имущественную» область:
– Вы правы, не стоит о том, что могло бы быть. Указ, о котором я говорил, предписывает накладывать секвестр на долю имения бежавшего за границу, ежели он сие сделал полностью на свой страх, иными словами, тайком от родителей. Если же будет доказано, что оставление пределов государства произошло с ведома владельца имения, а пуще того – при его подстрекательстве – немедленному секвестру подлежит уже все имение. – Тарлецкий значительно посмотрел на пана Саковича. – Как судья вы совершенно справедливо заметите, что доказать, имело ли место подстрекательство, совсем невозможно, если только нет свидетелей, которые захотят выступить в суде, а таковые, разумеется, вряд ли отыщутся. Другое дело, когда найдутся материальные свидетельства – собственноручные письма, из содержания которых, будем говорить без обиняков, ясно следует, что вы, пан Константин, с самого начала знали, куда и зачем отправляется ваш сын Павел, и одобряли его решение.
Говоря это, Дмитрий покосился на Зыбицкого, внимательно слушавшего каждое его слово, но старательно делавшего вид, что его интересуют только портреты на стенах гостиной. У того в этот момент, похоже, кольнуло в печени – он пощупал свой сюртук как раз в том месте, где прежде был спрятан конверт. Не удержавшись от улыбки, Тарлецкий продолжал:
– Вместе с обозом вы хотели передать в Варшавское княжество письмо для вашего сына, которое мы нашли, обыскав приказчика, некоего Абеля Соловейчика. Из письма очевидно, что вы с нетерпением ждете, когда сын придет сюда с наполеоновскими полками и выгонит ненавистных москалей. И даже имеется пассаж о том, что именно ради этого вы и сделали тот решительный шаг шесть лет назад. Этим вы сами против себя сделали улику, из-за которой, как я говорил, может быть изъято все ваше имение!
– Но это частное письмо! – с возмущением сказал Сакович.
– Написанное весьма неосторожно! Да, я прочел чужое письмо, но я обязан был сие сделать, и у вас нет причин обвинять меня в неделикатности! Сейчас перлюстрации подвергаются практически все письма, легально отправляемые за границу, а чего бы вы хотели в вашей ситуации, когда письмо отправляется тайно, да еще вместе с контрабандой?
– Где письмо теперь?
– Оно не ушло по назначению. Но и бояться его огласки вам нечего.
Конечно, ежели только со мной не произойдет здесь или в дороге какихнибудь необычайных приключений. Вы меня понимаете?
– И что, благодаря вашей бдительности раскрыт заговор?
– Нет. Только найдены основания для секвестра. О том, что вы всетаки состоите в заговоре, имеются другие свидетельства.
«Эх, до чего же все-таки эффектно! – сам собой восхитился Тарлецкий. – Сам Бог послал мне этого художника! Пан, как будто, не так глуп, чтобы сразу срубить мне голову тем двуручным мечом со стены, а потом закопать ее в саду отдельно от тела. Так что, кажется, можно продолжить».
– Вы, конечно, ждете объяснений. Извольте. Свидетельством, о котором я только что говорил, является хотя бы то, что четверть часа назад вы подтвердили, что ждали к себе этого художника. А ведь он французский шпион.
При этом господин Зыбицкий покачал головой и, фыркнув, развел руками.
– Этот господин, – продолжал Тарлецкий, не обращая внимания на художника, – зарисовывал фортификационные сооружения на Березине и распространял слухи среди работавших там крестьян о скором приходе наполеоновских войск, которые якобы принесут им свободу, он подстрекал их к саботажу и выступлению против местных русских властей…
– Я еще раз вам повторяю, что это плод вашего поэтического воображения, – вставил, наконец, свою реплику Зыбицкий.
– Есть еще и крестьяне, с которыми он разговаривал, один из них, Башан, здесь и ждет, когда его позовут, чтобы подтвердить достоверность моих слов. У меня есть основания заключить, что у неприятельского эмиссара к вам конспиративное поручение.
– Я ничего не знаю, – чеканя слова, сказал Сакович. – Какое я имею отношение к тому, что рисовал и что говорил приглашенный мною художник по пути ко мне?
– Вы пригласили его, узнав о нем…
– …Из «Литовского курьера».
– … И до этих пор вы ничего не знали друг о друге?
– Представьте себе! Я же вам объяснял, – вмешался в разговор Зыбицкий.
– И при этом вы везете под подкладкой письмо господину Саковичу от его сына, – выложил на стол очередную карту Тарлецкий. Выдержав торжествующую паузу, во время которой Зыбицкий нащупал булавку под сукном своего сюртука, а пан Константин недоуменно переводил взгляд с одного из своих гостей на другого, он продолжил:
– Оно написано в Данциге, значит, вы знали, что приедете сюда, еще до того, как перешли границу. А вся история с газетным объявлением – это так, вуаль!
– Ну да, письмо… меня попросили… передать при случае… Но ведь это ничего не доказывает! – заговорил прижатый к стенке художник.
– Чего вы хотите? Вы приехали арестовать меня? Мой дом окружен солдатами? – с достоинством спросил Сакович. Теперь перед Тарлецким стояла самая трудная задача – представить шляхтичу сколько-нибудь правдоподобный мотив своего поступка. Маскировать настоящий мотив не было нужды – отгадать его было просто невозможно.
– Вы можете убедиться, что это не так. Я действительно полагаю, что вы не заслуживаете тех неприятностей, которые вас ждали бы, дай я делу ход. Открыть контрабанду зерна и скрыть факт попытки переслать письмо было слишком рискованно – письмо было найдено при свидетелях, которые могли быть при разбирательстве опрошены… И, разумеется, не только это. Я, к счастью, узнал, что ваше имение соседствует с Клевками, которые я уже тогда серьезно вознамерился купить. Хорошо бы мне тут жилось, если бы мое появление в здешних местах сопровождалось историей о том, как я погубил своих соседей. И, как это бывает, молва тут же приписала бы, что я сделал это для того, чтобы расширить свое имение за счет вашего.
– А если вы надумаете купить другое имение, и мы с вами никогда не станем соседями?
– Хочется надеяться, что всякое доброе дело когда-то зачтется…
– До сих пор вы не производили впечатление столь набожного или филантропического человека… – позволил себе съехидничать Зыбицкий, но, встретив гневный взгляд майора, тотчас же замолчал.
– Одним словом, вот какой я нашел выход и сей час мы все уладим: вы не пытались переправить хлеб за кордон, он изначально направлялся в наш армейский магазин в Гродно, куда его и доставили. Купчие с полевым комиссариатским управлением я подготовил задним числом, вам остается только подписать их.
– Я не просил вас об этом, – произнес Сакович в диссонанс с дружеским тоном Тарлецкого.
– Что ж, в таком случае считайте, что вы мне ничем не обязаны, – сказал тот, отчетливо обозначив в своем голосе обиду.
– Я бы хотел этого. Я не люблю быть обязанным. Я полагаю, деньги за зерно, когда я подпишу документы, получите вы? Или уже получили? – спокойно проговорил Сакович. Его спокойствие объяснялось тем, что он, наконец, как ему показалось, разгадал своего собеседника: да он обычный корыстолюбец, затеявший замысловатую махинацию с казенными деньгами. А пана Константина ему нужно было припугнуть только для того, чтобы тот помалкивал.
У Тарлецкого действительно появились основания для обиды. «После всего он посчитал меня банальным казнокрадом? – подумал он. – Эх, была бы сейчас в кармане стопка ассигнаций, так бы и швырнул их в его усатую физиономию! Однако, спокойно: может быть, пока так и лучше, по крайней мере, перестанет жечь меня своими глазами».
Чуть прищурившись, Тарлецкий посмотрел сначала на Зыбицкого, потом на Саковича, лица которых тонули в сумраке (пан Константин почему-то не распорядился зажечь свечи). Все же нельзя последнее слово оставлять за Саковичем. Пора выкладывать последнюю козырную карту.
– Что ж, вас можно понять, пан Константин. Вы, очевидно, в некотором замешательстве от того, что пришлось сейчас услышать. Вы, конечно, получите деньги за ваш хлеб, можете быть спокойны. Только вы ведь не об этом хотели спросить. Вас интересует письмо от сына. Я не собираюсь с его помощью вас шантажировать. Вот оно, возьмите. Может быть, теперь вы не станете искать в моем поступке злых намерений и просто поверите в мое искреннее к вам благорасположение. – Тарлецкий протянул пану Константину тот самый маленький конверт. Это произвело на шляхтича, наверное, самое сильное за вечер впечатление.
– Давайте ваши купчие. Мне нужно ознакомиться с документами, прежде чем подписать. И я должен сделать распоряжения. Поэтому прошу меня извинить, на некоторое время я вас оставлю. Если не возражаете, вернемся к разговору после ужина.
– Конечно, конечно, не беспокойтесь! – ответил Тарлецкий, вынимая нужные бумаги из своей ревизорской папки. – С удовольствием подождем здесь, распорядитесь только открыть двери в ваш замечательный сад.
Оставшись наедине с Тарлецким, Зыбицкий попытался ему что-то сказать, но тот отмахнулся, утомленный напряженной беседой. Он прошел через зал и остановился у приоткрытого окна. «Побежал читать письмо. И он так ничего и не понял, – заключил Тарлецкий не без удовольствия. – Как бы пан Константин ни раздувал щеки, никуда он не денется от того обстоятельства, что я его облагодетельствовал. Вот истинный мотив…».
В эту минуту Тарлецкий увидел в окно в десяти шагах от себя девушку, и его мысли понеслись в каком-то диком вихре, и он даже не сразу осознал, что это та, ради которой он сюда приехал…
Глава 4
Истинный мотив майора Тарлецкого
Ей было лет девятнадцать. Она разговаривала с молодым человеком, очень похожим на нее, и казалось удивительным, как эти двое могут быть одновременно такими разными: совершенно обычный, ну, может быть, просто симпатичный молодой человек, и девушка, которая в сотню, в тысячу раз красивее. Спутавшиеся ветви старой ивы почти полностью закрывали маленькую скамейку, наполовину утонувшую в земле под грузом ажурного, но тяжеленного чугунного литья. Пожалуй, только с того места, где стоял сейчас Дмитрий, можно было видеть молодых людей, облюбовавших этот уголок, чтобы под неторопливую беседу попить чаю – фарфоровые чашки и розетки с вареньем стояли рядом на маленьком круглом столике.
Июньский вечер был светлым, как северная белая ночь, и Тарлецкий мог хорошо рассмотреть лицо незнакомки. У нее были большие голубые глаза с длинными ресницами, волнистые золотые волосы, тонкий нос, в котором только ноздри не хотели подчиняться идеально правильным очертаниям – трепетали, словно крылья какой-то гордой птицы. Это лицо отличалось от всех других когда-либо виденных Тарлецким своей живостью и естественностью так, как гордая вольная птица, прячущаяся от людских глаз, отличается от напыщенной цесарки, которую можно пнуть ногой всякий раз, выйдя во двор.
Самым поразительным было странное ощущение, будто каждое движение ее лица делает его еще прекраснее, будто ее красота никогда не возвращается к некой исходной точке, а постоянно стремительно совершенствуется. Ни один спектакль не мог приковать к себе такого внимания, как игра этих глаз, этих тонких бровей, этих милых губ, будто бы подаренных девушке каким-то гениальным (не чета Зыбицкому!) портретистом, лихо исполнившим свой лучший в жизни карандашный набросок. «Что это? – думал пораженный Тарлецкий. – Волшебство ли природы преподнесло ей сей дивный дар становиться прекраснее после каждого движения или жеста, или это сверхжеманство, дьявольское кокетство, часы и недели, употребленные на то, чтобы, глядя в зеркало, довести до совершенства свою мимику? Нет, слишком естественна эта смена выражений на ее лице, да и для кого? Ведь тот юноша наверняка ее брат. Решено!» – было следующим словом, которое невольно пришло в голову майору.
…Пятью месяцами ранее, в холодной необжитой конторе варшавского нотариуса Шица (адрес конторы менялся очень часто), состоялся разговор, предопределивший появление Тарлецкого в Старосаковичах. С бешеной скоростью протирая собственные очки, словно от этого предъявленные ему Тарлецким неопровержимые доказательства совершенного им подлога могли раствориться, побледневший худой крючкотвор начал умолять Дмитрия не передавать дело в суд.
– Пан, не погубите! Проклятые деньги! Из-за того, чтобы о них не думать, сгубил и душу, и репутацию… Пусть пропадают рештки моей репутации, только не погубите семью… Я могу помочь устроить вам ваше будущее, вам не нужно будет делать ничего такого… в чем вы могли бы когда-то себя упрекнуть… Весь грех будет на мне, я заслужил такое…
– О чем вы?
Нотариус надел и тут же снова снял свои очки, с надеждой посмотрев в глаза Тарлецкому.
– Вы красивый образованный молодой человек, вы не женаты. Я знаю, как вам составить успешную партию, чтобы кроме ваших замечательных способностей у вас появились и хорошие деньги, которые так нужны в молодости, чтобы скорее раскрыть свой талант… При этом никто не упрекнет вас в том, что вы погнались за богатством. Потому что никто не знает о том, что невеста так богата. Даже она сама… Вы не станете давать делу ход, пан Лупинский? (Тарлецкий, разумеется, выполнял свою секретную миссию под чужой фамилией).
– Продолжайте, пан Шиц.
– В девяносто четвертом году, когда здесь еще была Речь Посполитая, у меня была солидная контора в Вильно. Мне выпала честь стать душеприказчиком тамошнего русского генерал-губернатора, – начал нотариус, понизив голос. – Он сделал не совсем обычное завещание, которое уже не может быть изменено, потому что генерал умер еще в 1796 году. За два года до этого, как известно, в Вильно произошло восстание, во время которого генерал оказался не на высоте, как говорят, он его проспал. Причиной беспечности генерала, опять же по слухам, стала его увлеченность некоей дамой, которая чуть ли не специально была подослана к нему заговорщиками… Так вот, я скажу вам… – Шиц заговорил еще тише. Чтобы его расслышать, пришлось так близко к нему придвинуться, что пар, который шел у нотариуса изо рта в этой холодной комнате, начал конденсироваться у Тарлецкого на виске. – …Я вам скажу, что генерал был увлечен этой дамой очень серьезно. Потому что он завещал почти все свое состояние (а оно, поверьте, за время губернаторства в Вильно у генерала составилось немалое!) дочери этой самой дамы, появившейся на свет менее чем через год после тех памятных событий. Вы понимаете? Своих официальных детей у генерала не было. Завещание составлено так, что оно вступает в силу в день ее двадцатилетия, а до той поры не должно быть никакой огласки. То есть через неполных два года девушка получит извещение о наследстве. Могу себе представить, сколько сразу после этого у нее появится женихов. Если, конечно, она не выйдет замуж раньше… Давайте забудем о нашем недоразумении, пан Лупинский, и я назову вам имя девушки. Я даже покажу вам копию завещания генерала, чтобы вы не подумали, будто я снова хочу вас обмануть. Мне очень горько, но вы имеете на это право… Какой урон я нанес своей репутации!
– Мы все забудем. Как ее имя?
– Ее зовут Ольга Сакович. Она живет в отцовском имении где-то за Минском…
Вернувшись в Вильно, Тарлецкий осторожно навел справки. Таковая особа действительно существовала и была отнюдь не бедна даже без генеральского завещания. Ну а в дальнейшем, как читателю уже известно, обстоятельства будто нарочно стали складываться так, чтобы пан Константин Сакович просто захотел выдать свою дочь за Тарлецкого, великодушно не упрятавшего его в Сибирь.
Оставалось выяснить последнее из того, что могло помешать осуществиться этому действительно блестящему плану: не было ли в девице какого-нибудь внешнего изъяна, из-за которого его сватовство могло бы показаться подозрительным. Но какие изъяны? То, что он увидел, превзошло любые ожидания. Тарлецкий вдруг ощутил, что хочет жениться, даже если бы не было никакого генеральского наследства.
Девушка что-то говорила. Тарлецкий подвинулся к портьере, шире приоткрыл окно и отчетливо услышал ее мелодичный голос. Слова произносились на языке здешнего края, который в Варшаве называли «крэсавым польским». Молодые люди и одеты были очень просто – она в синем сарафане с накинутым на плечи платком, он в тонкой белой рубашке и штанах, заправленных в мягкие сапоги, у которых вывернутые наружу верхние части голенищ, называемые в здешних краях «халявами», были нарезаны бахромой. По таким деталям, как эта, или серебряным пуговкам на сарафане девушки, золотой нитке в ее платке, можно было заключить, что это все же далеко не простолюдины. Ну и, конечно, по их разговору.
– Говорю тебе, Алеська, Люцинка уже два раза его видела! – говорила девушка, широко раскрыв глаза, и ее испуг выглядел просто очаровательным.
– И он сам ей сказал, что он призрак?
– А кто же? Весь черный, в рясе – монах утопленник с нашего болота. Страх!
Юноша страхов сестры явно не разделял, отвечал ей с доброй улыбкой – наверное, другой реакции неподдельные чувства девушки вызвать не могли:
– Не слушай ты эту Люцинку! У нее в голове одни дремучие забобоны, в каждом кусте призрак мерещится!
– А кого же мне слушать, Алеська? Тебе хорошо, ты учишься в Вильно, у тебя там пропасть друзей! А я? За всю жизнь нигде не побывать дальше Могилева, не видеть никого, кроме соседа арендатора да Богуша с Рекишем, шляхтичей, от которых нужно вилки прятать, когда они в гости приходят, – со скуки можно умереть! Ведь сколько раз нас приглашали, а мы? А когда ты не в Вильно, тебе и здесь хорошо – у тебя здесь и охота, и твой француз, с которым ты можешь часами говорить всякой всячине или драться на шпагах, да ты можешь с любым мужиком поболтать в свое удовольствие, они тебя понимают, а что прикажешь делать мне?
– Ну, ну, Оленька, сейчас заплачешь! Ну давай, я спрошу разрешения у отца отпустить нас попутешествовать хотя бы на месяц. Вижу, тебе и вправду не помешает разнообразить общество. Засиделась в лесу!
– На целый месяц!
– Только в Вильно отец вряд ли нас отпустит, там же сейчас русский царь, весь его двор, гвардия, вся столица сейчас переместилась в Вильно. Только нас там не хватает!
– Вот здорово! Ну пусть не в Вильно, пусть в Петербург, кто-то же остался еще в Петербурге? Пусть в Варшаву, в Москву, видишь, какая я покладистая?
– Вижу. Да я тоже хотел бы повидать разные места, про которые пишут в книгах. А лучше всего – перебрался бы к брату, знать бы только, что возвращаться сюда смогу чаще, чем он.
– Чтобы сестренку повидать?
– Конечно, как же я без тебя? И без нашего дома, сада… Я люблю свои места, – просто ответил молодой человек, впервые обратив на себя внимание Тарлецкого. – Павла уже шесть лет здесь нет. Я так не хочу.
– Уж если сражаться, так для пользы Отчизны. Я не знаю, как можно служить своему краю и столько лет его не видеть. Да за это время вовсе забудешь о нем! Надо другое…
– Что же?
Молодой человек задумался. Он, как и его сестра, был похож на пана Константина – такой же широкий лоб и острый подбородок, – но для него природа как будто пожалела красок. Его непослушные жесткие волосы были совершенно белыми, бледное, с нечеткими очертаниями лицо словно растворялось в синеватых сумерках. Бесцветные брови, бесцветные ресницы, бесцветные глаза… Они словно отказывались от собственного облика, чтобы вбирать в себя суть окружающего. На вид ему было лет двадцать. Он медленно провел рукой по нервным губам, по гладкому, наверное, еще не нуждавшемуся в бритве подбородку, и сказал:
– Надо, чтобы люди стали друг друга уважать, но перестали бояться. Мы – русских, мужики – пана… Здесь у людей никогда не было свободы, а она может все изменить! Во Франции народ завоевал для себя свободу и стал непобедимым, у господина Венье до сих пор глаза загораются, когда он рассказывает про свою революцию! Австрия, Пруссия, Россия разделили между собой нашу землю – армии этих надменных монархий рассыпались, столкнувшись со свободным народом Франции, с их гениальным вождем. А если бы свободным был и наш народ?
– То нам бы нечем было жить, – с милой улыбкой заключила девушка, верно, уже наслушавшаяся философий брата.
– Почему? У нас есть имение, земля. А свободный труд принесет больше, чем подневольный. Нам с тобой тоже.
– Однако твой мсье Венье убежал от собственной революции.
– Он считает, что Наполеон ее задушил. Ведь мсье Венье до сих пор якобинец.
– Постой, поговорим лучше о брате. Я уверена, что эти господа, которые только что приехали, привезли какое-то известие от него.
– У тебя такие фантазии приходят, как только где-то колесо скрипнет или сорока над садом пролетит, – улыбнулся молодой человек.
– Да нет же, я уверена! Алеська, в столовой зажегся свет, может быть, отец сейчас там без гостей. Сходи, спроси у него!
– Хорошо, Ольга, попробую что-нибудь узнать. Может быть, ты и права, у меня самого какое-то непонятное беспокойство… Ты подожди меня здесь.
Молодой человек встал и быстрыми шагами прошел к двери в восточном флигеле дома. В ту же минуту Тарлецкий решительно вышел в сад. Почти у самого крыльца протекал медленный ручей. Вода в нем была чистой, как хрусталь. Свежие запахи сада наполнили грудь Дмитрия. За густой листвой ивы он перестал видеть очаровательную незнакомку, но та заметила его и сочла необходимым покинуть свое укрытие, чтобы гость не подумал, что она нарочно прячется и подсматривает за ним.
– Добрый вечер – первой сказала она. Тарлецкий на несколько секунд замер в низком почтительном поклоне.