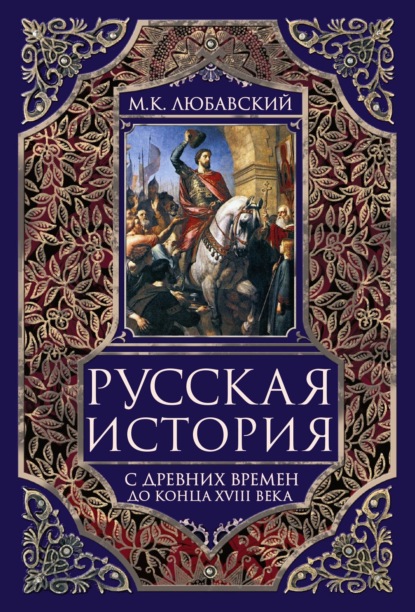
Полная версия:
Русская история с древних времен до конца XVIII века.
Разбор мнения Д.И. Иловайского
Доводы Д.И. Иловайского имели огромное значение в разработке вопроса. Они заставили его противников внимательно пересмотреть данные источников, поискать новых доказательств и таким образом способствовали разъяснению дела. Но это их значение было именно косвенное, а не прямое. В своем положительном содержании доводы эти не могут быть приняты в настоящее время.
Во-первых, нельзя игнорировать тех свидетельств, которые идут из китайских источников и которые именем Hiung-nu, Хунь-ну, обозначают тюркские народы на их прародине, затем указывают и на дальнейшее передвижение их на запад. Во-вторых, нельзя так относиться к сообщениям о наружности гуннов, как это видим у Д.И. Иловайского. О наружности гуннов сообщает не один только Аммиан Марцеллин, кстати сказать, служивший в римском войске и имевший возможность лично видеть гуннов. Припомним, что пишет Иорнанд со слов Приска о наружности Аттилы, которого он считает типическим представителем своего племени: узкие глаза, редкая борода, курносый, смуглый. «У них лицо, – пишет про гуннов Иорнанд, – ужасающей черноты и похоже более, если так можно выразиться, на безобразный кусок мяса с двумя дырами вместо глаз. Они малы ростом, но ловки в движениях и проворны на коне, широкоплечи, вооружены луком и стрелами; с толстым затылком, всегда гордо поднятым вверх». Аполлинарий Сидоний в стихотворном панегирике, писанном императору Антемию в 60-х годах V века, говорит о гуннах: «Голова сдавленная. Подо лбом в двух впадинах, как бы лишенных глаз, виднеются взоры… Через малое отверстие они видят обширные пространства и недостаток красоты возмещают тем, что различают малейшие предметы на дне колодца». Возражавший Д.И. Иловайскому на диспуте по гуннскому вопросу, происходившем 30 декабря 1881 года на заседании Этнографического отдела Общества любителей естествознания, антропологии и географии Д.Н. Анучин, сопоставив все черты гуннского типа, рассеянные в сообщениях писателей: невысокий рост; коренастое, плечистое сложение; коротконогость; толстую, короткую шею; широкий, плоский, приподнятый кверху затылок; большую голову; плоское широкое лицо, как у грубо изваянных статуй; узкие глаза; приплюснутый нос; безбородость или редкую бороду, смуглый цвет кожи, пришел к такому выводу: «Черты эти, взятые в совокупности, едва ли могут оставлять сомнение, что характеризуемый ими народ представлял по своему типу значительно большое сходство с типом современных монгольских и урало-алтайских племен, чем так называемых кавказских и, в частности, арийских». Д.Н. Анучин указал на невозможность с естественно-научной точки зрения объяснять безбородость гуннов надрезами щек в младенчестве, так как зачатки волос являются позднее, в период полового созревания, и щеки, изрезанные в младенчестве, все равно обрастают потом волосами.
На этом же самом диспуте попытка Д.И. Иловайского вывести сохранившиеся имена гуннских царей из славянского языка встретила решительные возражения со стороны филологов-специалистов В.Ф. Миллера и Ф.Е. Корша, которые в уцелевших именах гуннских царей усмотрели тюрко-татарские элементы. Некоторые из этих имен оканчиваются на gan; Zabergan Au-gan Ai-gan. Миллер указал на аналогию в тюркском кан или хан (например, у половцев Шарукан, Тугоркан и др.). Ойбарс, по Миллеру и Коршу, тюркское слово, аналогичное половецкому Багубарс, и значило, вероятно, тигр; Берих – тюркское берик – крепкий; Басых – тюркское басык – скромный; Баян, которое Иловайский считает несомненно славянским, есть чисто тюркское обозначение богатый; Борис равно Богорис, имя, встречающееся у несомненных тюрков-авар; Валамир или Баламир – тюркское дитя, мальчик и т. д. Остаются имена медос, камос, которые слышал Приск во время путешествия к Аттиле. Но сам же Приск сообщает, что гунны в Паннонии были сборищем разных народов, что среди них были в употреблении разные языки, между прочим гуннский, готский, латинский. Могли быть среди них и славяне, увлеченные общим народным потоком в Паннонии или же покоренные здесь гуннами. Приск не говорит, что название медос было гуннское: он говорит только, что напиток назывался по-местному медом (ό μέδος έπιχωρίως χαλŏνμενος). Название камос едва ли можно приравнивать славянскому квас. Римские писатели, как показал покойный академик Васильевский, констатируют существование этого напитка у иллирийцев еще в III веке по Р. Х. Что касается имени отрава, сообщаемого Иорнандом, то, если это только действительно славянское слово, оно могло быть услышано от какого-либо славянина, находившегося среди гуннов.
Что касается сближений гуннов и славян у древних писателей, то и эти сближения не доказывают их тождества. Прокопий, например, говорит, что славяне и анты по простоте нравов во многом походят на гуннов, живут гуннским обычаем. Но из этого прямо следует, что он, в сущности, различает гуннов и славян. Прокопий был современник гуннов, а все другие писатели, на которых ссылается Иловайский, жили 300, 400 и 500 лет спустя, следовательно, их заявления нельзя принимать за свидетельства тождества гуннов и славян. Эти заявления указывают только на то, что память о гуннах долгое время сохранялась в европейском обществе, что имя их стало литературным синонимом для обозначения восточных варваров, подобно тому, как некогда таким именем было название «скиф», что в разряд этих варваров западные народы склонны были относить и славян, с которыми они вели войны.
Остается еще один вопрос: куда девалось многочисленное племя гуннов? По этому поводу приходится прежде всего заметить, что не нужно чересчур преувеличивать численность гуннов. Гунны при своем движении на запад, несомненно, увлекли множество других племен сарматских, славянских и германских, и обратно на восток двигались уже не такие полчища, какие двигались на запад. Это во-первых. Во-вторых, по современным свидетельствам, в степях нашего юга после гуннов являются болгары – кутургуры и утургуры. Некоторые писатели, как, например, Прокопий, прямо считают их гуннами. Но если даже это и были отдельные от Аттиловой орды, весьма вероятно, что гунны Аттилы при своем отступлении на восток слились с этими ордами.
Итак, соображения Д.И. Иловайского, на наш взгляд, не отодвигают занятие славянами нашего степного юга на более раннее, чем V и первая половина VI века, время.
Хазары и подчинение им славян
В VII веке наступили особо благоприятные условия для упрочения и усиления славянской колонизации нашего юга. Западная болгарская орда перешла в 670 году на юг, за Дунай. На востоке господами положения сделались хазары, между прочим покорившие и подчинившие себе восточную орду черных болгар, кочевавшую в Предкавказье, где-то около Кубани, хазары были давнишними обитателями нашего степного юго-востока. Под именем акациров они выступают в известиях V века (Приска) где-то в области среднего Дона или Волги, по соседству с болгарами. При Аттиле они держались союза с Византией и воевали с Аттилой, но позже добровольно подчинились гуннам. Какого происхождения были хазары, сказать трудно; арабский писатель X века Истарки свидетельствует, что язык хазарский сходен с тюркским. И действительно, названия высших чинов у хазар – тюркские. В VII веке хазары представляли собой уже могущественную силу на нашем юго-востоке, которая вступила в ожесточенную борьбу с арабами. Арабы, овладев Персидским государством Сасанидов, стремились овладеть и Кавказом. В результате этой борьбы Закавказье осталось в руках арабов. Хазарское владычество на юге не простиралось далее Дербента, где еще Сасаниды построили стены для защиты от хазар. Но зато на север от Кавказских гор владычество хазар распространилось очень широко. В конце VII и начале VIII века хазары господствовали около Керченского пролива и во всем Крыму; даже в Корсуни сидел тогда их наместник – тудун. И позже, в VIII и IX веках, хазары, хазарские войска, по источникам, выступают в Крыму; Корсунь вернула себе Византия, но в восточной части Крыма хазары остались. Средоточием хазарского государства были прикаспийские области. Здесь, при устье Волги, находилась их столица Итиль; далее к югу, невдалеке от устья Терека, находился славившийся своими виноградниками Семендерь; тут же обитало и собственно хазарское население, по свидетельству Ибн Хаукаля, в плетенных из хвороста хижинах, обмазанных глиной.
Установление хазарского господства на нашем степном юго-востоке отразилось благоприятным образом на распространении славянской оседлости в наших степях. Хазары преградили доступ в них кочевым ордам, напиравшим с востока, а со славянами, двигавшимися в степь, установили мирные, дружественные отношения. Под защитой и покровительством хазар славяне распространили свою колонизацию в области, занятые хазарами, стали обитателями Хазарии, подвластными кагану Хазарскому. Арабский писатель Аль-Баладури, писавший в 60-х годах IX столетия, рассказывает о сирийском вожде Марване, что тот, вступив в Хазарию, вывел оттуда 20 тысяч оседлых славян. Хотя этот факт имел место в VIII столетии, но все ученые, изучавшие произведения Аль-Баладури, не сомневаются в достоверности его сообщения. Другой арабский писатель Табари, рассказывая о том же самом факте, говорит, что Марван в погоне за хаканом Хазарским, вступив в его земли, расположился на славянской реке и здесь напал на неверных, перебил их всех и разрушил 20 тысяч домов. Масуди, живший в первой половине X века, славянской рекой в Хазарии называет Дон. «Между большими и известными реками, – говорит он, – изливающимися в море Понтус, находится одна, называемая Танаис, которая приходит с севера. Берега ее обитаемы многочисленным народом славянским и другими народами, углубленными в северных краях». Славяне, по словам Масуди, жили даже в столице Хазарии и служили в войске и при дворе кагана: «руссы же и славяне, о которых мы сказали, что они язычники, составляют войско царя и его прислугу». Итак, в область славянских поселений в VIII–IX веках входил, несомненно, и бассейн реки Дон. Этим, по всей вероятности, объясняются и многочисленные славянские названия рек его системы: Уды, Сальница, Красная, Боромля, Ольховата, Лугань – притоки Донца; Красивая Меча, Быстрая Сосна с Трудами, Воронеж, Тихая Сосна, Черленый Яр, Осереда, Медведица, Иловля – притоки Дона. Эти названия попадаются и в летописях, и в других памятниках до XV века, то есть гораздо ранее позднейшей колонизации Дона, следовательно, надо думать, давнего происхождения. Известия арабских писателей подтверждаются и баварским географом IX века, который констатирует существование в Хазарии 100 городов. Развивавшаяся в Хазарии торговля с арабами и постоянная борьба хазар с восточными соседями мирно настраивали хазар по отношению к славянам нашего юга. Славяне высылали на хазарский рынок свое сырье для сбыта на Восток, причем каган брал десятину от всех товаров. Славяне же, как сказано, составляли и войско его. Хазары установили свою власть не только над славянами, расселившимися в непосредственном с ними соседстве, но и над всеми вообще славянскими племенами, расселившимися по южным областям. До начального русского летописца дошло предание, что дань хазарам платили поляне, радимичи, вятичи и северяне. Хазарский каган был первым государем у славян Приднепровья. Вот почему именем «каган» впоследствии пользовались для обозначения уже русского государя: первый митрополит из русских Иларион составил «похвалу» кагану Владимиру. По всем данным, славяне без борьбы подчинились хазарам именно потому, что хазары были для них оплотом, защитой от нападений с востока. Входя в состав Хазарской державы, славяне и расселились так широко по степным пространствам нашего юга.
Приводимые данные о заселении славянами степного юга не согласуются с той картиной славянской колонизации, которую рисует нам наша начальная летопись. Ввиду этого необходимо остановиться на этой картине и рассмотреть, в какой мере она верна и соответствует тому начальному моменту нашей истории, к которому она приурочивается.
Район славянской оседлости в Восточной Европе, по летописи
Рассказывая о расселении славян с Дуная в разные стороны, автор «Повести временных лет» говорит между прочим: «Тако же и ти словене пришедше и седоша по Днепру и нарекошася поляне, а друзии древляне, зане седоша в лесех; а друзии седоша межю Припятью и Двиною и нарекошася дреговичи; инии седоша на Двине и нарекошася полочане, речьки ради, яже втечет в Двину, имянем Полота… словене же седоша около озера Илмеря, и прозвашася своим имянем, и сделаша град и нарекоша и Новгород; а друзии седоша по Десне и по Семи и по Суле, и нарекошася север». Затем, перечисляя славянские племена, населявшие нашу страну, автор «Повести» называет кривичей, «иже седят на верх Волги и на верх Двины, и на верх Днепра», бужан, которые прозвались этим именем, «зане седоша по Бугу, после же велыняне», радимичей, которые сели на Сожу, вятичей, севших по Оке, хорватов, дулебов которые сидели по Бугу, «где ныне велыняне». «А улучи и тиверци, – говорит он, – седяху по Днестру, приседяху к Дунаеви, бе множество их, седяху бо по Днестру оли до моря, и суть гради их до сего дне, да то ся зваху от греков Великая Скуфь» (Лаврентьевская летопись, с. 5, 10, 12).
По этим общим контурам, набрасываемым первоначальной летописью, получается такая картина расселения славян по нашей стране: славяне расселились по бассейнам Днепра, Западного и Южного Буга. Днепра и его правых притоков и левых: Сожа, Десны и Суды, – верхней Волги и Оки, верхней и средней Западной Двины и озера Ильмень. Славянская колонизация не захватывает бассейна нижнего Днепра, бассейна Дона, нижней Оки, где, по словам «Повести временных лет», сидит мурома, «язык свой», бассейна средней Волги приблизительно от впадения Тверцы, ибо дальше, по словам «Повести», расположены «инии языцы» – весь, меря. Весь север не охвачен еще славянской колонизацией: «в странах полунощных» живут чудь, ямь, пермь, печера.
Итак, наша начальная летопись не знает славян в степях на восток от Днепра и южнее Сулы, расходясь в данном случае с показаниями арабских писателей. Такое разноречие вполне понятно. Составитель нашей начальной летописи жил лет на полтораста позднее, когда размещение славянского населения в нашей стране уже значительно изменилось по сравнению с IX веком. Составитель «Повести временных лет» знает уже половцев; он современник зависимости хазар от русских князей, а эта зависимость падает на время между 1036 годом, когда Ярослав наголову разбил печенегов и очистил от них Хазарию, и 1061 годом, когда половцы завладели страной хазар. К тому времени, как увидим ниже, радикально изменились условия жизни в наших южных степях, и славянское население должно было покинуть их и отступить частью на север, частью на запад. Естественно поэтому, что бассейн Дона должен был выпасть у нашего летописца из области расселения славян.
За этим исключением, картину расселения славян, начертанную нашим летописцем для конца IX века, можно считать в общем правильной. Она подтверждается и частными указаниями самой летописи, и современными иноземными свидетельствами. По летописи мы встречаемся с разными славянскими городами в той области, которая очерчена летописцем как область славянской оседлости. Таковы: Новгород, Псков, Полоцк, Смоленск, Любеч, Киев, Чернигов, Переяславль, Ростов, Муром. Эти города являются древнейшими, происхождение которых теряется во мраке времен. Константин Багрянородный в своем сочинении «Об управлении империей», в известном рассказе о торговле руссов с Константинополем (гл. 9) перечисляет те же города: Киев (Κιοάβα), Новгород (Νεμογαρδάς), Смоленск (Μηλινίσχα), Любеч (Τελιούτσα), Чернигов (Τζερνιγώγα), Вышгород (Βονσεγραδέ) и отчасти те же племена: древлян (Βερβιάνοι), дреговичей (Δρονγονβιτοϊ), кривичей (Κριβιτςõι), северян (Ζερβίοι) и славян. Все эти данные относятся к первым десятилетиям X века. Но еще ранее того, от последних десятилетий IX века, имеем известия от анонимного географа, по местонахождению его рукописи называемого Баварским, известия, которые также во многом подтверждают нашего автора «Повести временных лет». Он говорит о бужанах (Busani), волынянах (Velunzani), северянах (Zuirenni), уличах (Unlici), неопределенно указывая на место их жительства к северу от Дуная и на количество их городов. Эти данные утверждают нас в мысли, что составитель «Повести временных лет» более или менее правильно обозначил племенной состав восточного славянства, а известия Константина Багрянородного в известной степени подтверждают и саму картину расселения, даваемую «Повестью временных лет».
Из этой картины обнаруживается, что к началу X века славянское население уже далеко раскидалось по нашей стране не только в южном, но и в северном направлении. Область первоначальной славянской оседлости сильно увеличилась, славяне заняли огромную территорию.
Глава пятая
Материальная и духовная культура славян в эпоху их расселения в Восточной Европе
Культурное развитие Восточной Европы, прерванное разрушительным вторжением диких азиатских орд в конце IV, в V и VI веках, возобновилось и пошло вперед с расселением в ее южных и северных областях славянских племен.
Материальный быт славян в эпоху их совместной жизни
Когда славяне стали расселяться в Восточной Европе, они уже далеко не были первобытными дикарями и прошли довольно значительную стадию культурного развития. Это был оседлый земледельческий народ, который знал и умел разводить полезные растения, водил домашних животных, промышлял охотой и рыбной ловлей, знал некоторые мастерства и ремесла. По данным лингвистики можно судить, что эту стадию культурного развития славяне проходили частью еще в то время, когда они не отделились от других индоевропейских народов, а частью уже в обособлении от них, но до своего разделения на восточных, западных и южных и в известном общении с соседними народами. Так, названия, касающиеся жилища и его частей и отчасти сходные с именами других индоевропейских народов, звучат более или менее одинаково во всех славянских языках: дом (греч. δόμος, лат. domus), изба (истба, stube), стена, кров, стреха, окно, дверь; сходны названия хозяйственных строений: двор, клеть, хлев, житница, гумно, плот (ограда); главных видов селений: село или весь, город. В родстве с именами других индоевропейских народов и между собой стоят в разных славянских языках названия, относящиеся возделывания земли, например орати (греч. àροω, лат. aro) – сеять, семя (лат. semen, верхненем. samo); названия хлебных и волокнистых растений: рожь (лит. rugys, сев.-нем. rugr), овес (лат. avena, лит. aviza), жито, ячмень, просо, мак (греч. μηχον, сев.-нем. mago, прусск. moke), лен (греч. λίνον, лат. linum, готское lein, лит. linai, ирл. lin), конопля; овощей: боб (лат. faba, прус. babo), репа (греч. ραπύς, лат. rapum, нем. rube), лук, чеснок, горох, чечевица; плодовых деревьев: черешня (греч. χεράσσιον, верхненем. chirse), вишня (греч. βνσσινήά), яблоня (ирл. aball, англ. apple, лит. obulas), груша (лит. kriasia), слива (лит. slywas), орех. В таком же родстве находятся и имена земледельческих орудий: рало, или орало (греч. âροτρον, лат. aratrum, ирл. aratar), плуг (сев.-нем. pflug, лит. pliugas), серп (греч. âπρη), борона, коса, грабли, вилы, лопаты, мотыга, воз, колесо. Общеславянскими и в родстве с именами других индоевропейских народов являются названия разных домашних животных: бык (греч. βοΰς, лат. bos), вол, корова, теля, конь, кобыла, жеребя, вепрь (лат. арег, верхненем. ebur), свинья, порося (лат. porcus, верхненем. farah), баран, овца (греч. οΐς, лат. ovis), коза, ягня (лат. agnus), гусь (нем. gans), утка (лат. anas, нем. ente), куря, голубь; названия животных продуктов: мясо (гот. mimz, лит. mesa), молоко (старонем. milug), сыр (лит. suris), масло, шкура, руно, волна (греч. λάνος, гот. wulla, лит. vilna), яйца. По инвентарю общеславянских слов можно заключать о занятиях славян в эпоху их совместной жизни пчеловодством: слова – пчела, матица, трутень, улей, борть, мед (санскр. madhus, греч. μέζν, верхненем. meto), воск (лит. waskas, верхненем. wahs) встречаются в разных славянских языках. Точно так же называются одинаково и промысловые животные, составляющие предмет охоты и водяной ловли, а равно и самые орудия охоты и ловли: бобры, куницы, волки, медведи, зайцы, олени, лоси и т. д.; лосось, линь, щука, осетр, угорь, окунь и т. д.; лук, стрела, тенета, сеть, пряжа, невод, уда. Предметы, получавшиеся от всех этих занятий, славяне уже умели перерабатывать, приспособлять известным образом к потреблению. Хлебные зерна они умели молоть, превращать в муку; из муки делали тесто и пекли хлеб (лат. libum, гот. klaifs, лит. klepas); из муки же и хмеля варили дрожжи (сев.-нем. dreggo, прус. dragis), брагу и пиво; из волокон льна и конопли пряли нити, из которых ткали полотна и плели сети, мрежи и невода; кожу животных превращали в усму и приготовляли черевики; из кожи с шерстью шили кожухи, шубы; из шерсти готовили сукна; из рыбы варили уху (лат. ius, лит. jusa); из меда напиток того же названия.
Славянам еще до разделения известны были некоторые металлы и способы их обработки. Слова: золото, серебро (гот. silubr, прус. siraplis), медь, железо (прус. gelso, лит. gelezis) – общеславянские, равно как: кузнец, ковач, золотарь. Употребление металлических орудий – ножа, топора, пилы, молота, наковальни, долота и клещей – было в полном ходу. При помощи этих орудий славяне рубили избы, изготовляли мебель и домашнюю посуду – столы, стулья, лавки, бочки, кади, дежи, ведра, жбаны, корыта, чаши, ложки, челны, ладьи. Известно было им приготовление посуды из глины и металлов: горнец, гончар, котел – слова общеславянские. Общеславянскими являются и наименования оружия: копье, щит, сулица, секира, лук с тетивой, стрела, броня, шлем (helm); металлических украшений: перстень, обручи, гривны; музыкальных инструментов; бубен, гусли. Инвентарь общеславянских слов можно еще пополнить названиями, свидетельствующими о начавшемся торговом обмене: торг, мера, локоть.
Иранское и готское влияние на быт славян до их расселения
Вся эта культура славян, создавшаяся ко времени их расселения, была отчасти наследием древнейшей совместной жизни праславян с другими родственными народами, отчасти развилась после обособления их от этих племен. Но и при этом она развивалась не без воздействия со стороны. Исследователи в данном случае указывают на два главных влияния – иранское (через скифов и сарматов) и готское. Иранцы нашего юга, воспринимая элементы культуры от греков и с востока, из Месопотамии, передавали их своим северным соседям – славянам и финнам. Шафарик признавал иранское происхождение слов: курган, бугор, шатер, чертог; сюда же относят слова собака (шпака), топор, куря. Хорс, бог солнца, по-видимому, иранского происхождения (древнеперс. Керешь). Восточным влиянием, по-видимому, объясняется и поклонение загадочным божествам Симу, Реглу и Мокоши, о котором говорит «Слово христолюбца»: Сим сближают с Ἀσιμãζ 4-й книги Царств, Регл – с ассирийским Εργελ; Мокошь – с Астартой одного памятника Босфорского царства. Скифо-сарматское влияние заметно в предметах убранства, находимых в славянских могилах (шейные гривны, бубенчики и браслеты), в гончарных изделиях и их орнаментовке. Значительное место отводят исследователи готскому влиянию на жизнь славянства. Прежде всего, славяне переняли у готов некоторые вооружения, именно меч (гот. meki) и шлем (гот. helms) и военную тактику. Славяне стали сражаться уже не беспорядочно, а полком, целым народом (volk), под хоругвями (гот. hrunga). Через готов появились у славян пенязи (phenning); готское skat (schatz), скот – заимствовано было для обозначения имущества; готы познакомили славян и со стеклом (stikis), котлами (katils) и пилами (file); от готов заимствованы такие речения, как овощи (obst), осел (asilus), верблюд (гот. ulbandus), яблоко (apfel). Наконец, от готов заимствовали славяне и слово князь (konung, konig, king) для обозначения своих вождей. В какой мере справедливы все эти догадки, с уверенностью трудно сказать. Сходство готских и славянских речений могло произойти и другим путем, именно путем влияния славянской культуры и языка на готские. Но доля истины в этих догадках несомненна.



