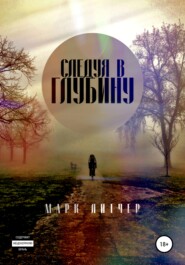скачать книгу бесплатно
Об этом тоже почти никто не знал, но я почувствовал, что теперь должен отплатить откровенностью, показать свой камень. И я попробовал извлечь его из фундамента тёмного прошлого:
– Я убил свою мать.
Серия 3
Меня всегда пугал потухший взгляд – несмываемая печать на лицах персонала больницы. Часто, глядя в зеркало, я искал такой же безразлично холодный отпечаток и в своих глазах. Пока не находил. Возможно, он виден лишь со стороны. Тем людям, кто не так часто сталкивается с чужим горем и болью. Нет, всё же я считал себя не похожим на других врачей, санитаров, медсестёр. Что-то удерживало во мне заинтересованность в человеческой судьбе, благосклонность, можно сказать, даже своеобразную любовь к тем, для кого, по воле судьбы, я становился проводником, маяком и гидом на пути к выздоровлению или, точнее, ремиссии. Выздоровление в психиатрии, особенно в отделении шизофреников – миф, недосягаемая высота. Сколько их каждый год, а то и пару раз в год возвращается. Сколько десятилетиями живут в психушках.
Я копал и копал, словно кладоискатель, надеялся на чудо. Новые методы, новые комбинации лекарств. Я готов был испробовать всё.
Я часто раздражался на людей, на их пустые разговоры и низменные желания, но больше всего презирал бесконечную робость тех, кто имел здоровый, работоспособный мозг, способный к развитию, но простаивающий, как жеребец, не видевший ничего, кроме огороженного стойла. Эти две черты боролись во мне с детства, я всё не мог понять, гуманизм – это любить и принимать каждое человеческое существо, невзирая на их мораль, положение и отношение, или только тех, кто вошёл в мою жизнь, ища руку помощи, сочувствия и тепла, и с достоинством мог их принять. Выходит, мой личный гуманизм был избирательным интересом, возможно, эгоистичным желанием почувствовать себя полезным. Вполне себе смысл существования.
Звонок телефона застал за обедом. Я доедал вчерашние макароны и думал, что неплохо бы иметь прислугу, домработницу или, страшно подумать, жену.
Если с прислугой всё в любом случае сложится, то с женой могут возникнуть сложности. Конечно, я не считал, что женщина в доме нужна лишь в качестве домохозяйки, но хотя бы у себя в голове я мог позволить себе такой сексизм. В голове вообще можно многое себе позволить, но мы вроде как эволюционировали благодаря способности ставить барьер между фантазиями и реальностью. Я всего-то о том, что сейчас мне не хватало лишь с любовью и заботой сделанного полноценного обеда. И покоя. Но телефон пиликал свою дурацкую мелодию.
– Павел Алексеич, скорее, в пятую, – встревоженная Тамара – явление редкое.
Я подскочил со стула и как был, без халата пробежал от ординаторской мимо поста в другой конец коридора.
В палате стоял гул голосов. Пациент Петров кричал, сдерживаемый высоким санитаром. Двое медсестёр и другой санитар стояли, склонившись над койкой Серёжи Гаманько.
– Диазепам! – скомандовал я, увидев, что тело Серёжи трясётся в судорогах, а изо рта проступает кровь.
– Что случилось? – я обращаюсь ко всем сразу, но смотрю на Люсю, медсестру с выражением ужаса и вины на лице.
– Я пришла поменять ему катетер, – блеет она.
– Она его удааарила, – истерично вопит Петров.
– Никого я не била…
– Вывести всех!
– Он просто вскрикнул, закатил глаза, стал трястись.
Люся нервно жестикулирует.
Люся была новенькой молоденькой девчушкой с большим клювовидным носом. Судя по всему, судорог ещё не видела.
Я держу голову Серёжи, пока медсестра внутривенно вводит лекарство. Серёжа ослабевает, обмякает. Его тело на минуту замирает, и внезапно всё повторяется. Челюсть сжимается так, что в палате слышан хруст крошащихся зубов.
– Ещё диазепам. И зовите реаниматолога, – громко командую я.
Вдруг дыхание Серёжи замирает, он снова отключается. Я пытаюсь нащупать пульс на шее – ничего. Поднимаю веки – зрачки широкие, не реагируют на свет. Чёрт, чёрт, чёрт, где реанимация? Где кто-нибудь?
– Найдите дефибриллятор, быстрее, быстрее, Тома!
В палату медленно входит Антон, врач соседнего отделения. У Антона тупое, безэмоциональное выражение и исковерканный усландский язык. Когда-то Антон работал в реанимации.
– Шито тута в нас? – Антон слушает сердце. – Хутка, на пал, трышцаць кампрэсий, два здыху.
Я в растерянности озираюсь, ожидая помощи.
– Набярыце адрэналин.
Медсестра пытается найти вену.
– Тьфу ты, только же была.
Лупит Серёжу по руке.
– Пад сквицу кали, ци пад ключыцу.
Медсестра непонимающе смотрит на Антона. Тот выхватывает шприц и колет в области левой груди под ключицу.
Я стою на коленях, смотрю, как голова Серёжи качается в такт компрессиям. Кровь стекает изо рта до уха. Наконец приносят кардиограф и дефибриллятор. Спустя минуту Антон говорит: «Ничога. Дэфибрылятар тут ужо не нужон».
Я продолжаю жать на хрупкое тело, ощущая под пальцами хруст рёбер, повторяя про себя проклятья.
Спустя, наверное, минут двадцать Тамара силой оттаскивает меня, смотрит в глаза.
– Всё, всё, успокойся, Павел Алесеич, Паша!
– Я спокоен! Чёрт!
Да, я был спокоен, как извергающийся вулкан, как атомы в адронном коллайдере, как трансформаторная будка, как бомба с обратным отсчётом. И не столько из-за смерти Серёжи, сколько из-за своей беспомощности и, стыдно сказать, предчувствия, что беда не приходит одна. Так оно и вышло.
– Плохой день?
Я сижу в кафе за столиком на улице, передо мной – закрытая бутылка коньяка. Я пью третий эспрессо. Вокруг гогочущая толпа. Поднимаю голову и вижу Максима. Его вот только сейчас не хватало. Он один и вроде трезв.
– Никогда не понимал прелести всех этих тусовок, – говорю я, кивая на веселящихся вокруг людей.
– В большой компании веселее выпивать. Мы же общественные существа, да? – говорит Максим и садится напротив.
– Так и будешь на неё смотреть? Или нальёшь? – спрашивает он.
– Не умею заливать проблемы. Думал может да, но всё же нет.
– А ты попробуй, стоит только начать, – подтрунивает Максим.
– Ты хочешь?
Я пододвигаю к нему бутылку со стаканом.
Максим облизывается.
– Не сейчас. Важные дела.
– Ммм, ну удачи.
– Слышал про интеграцию? – Максим воодушевлён.
– Чего?
– Скоро можем стать губернией, – размахивая руками, говорит он.
– Ммм…
– На рыжего надежды нет, нужно брать всё в свои руки.
– Да плевать. – Я откидываюсь на спинку стула, скрещиваю руки.
– Тебе на свою страну плевать?
– Чем я хуже кота?
– Что? – Максим округляет глаза.
Я достаю телефон.
– Да вот, недавно прочитал, Бродский говорил… Сейчас, я себе репостнул, вот: «Я как кот… Коту совершенно наплевать, существует ли общество „Память“. Или отдел пропаганды в ЦК КПСС. Так же, впрочем, ему безразличен президент США, его наличие или отсутствие…» Понял? Так что иди нахрен.
Я встаю, обтягиваю рубашку и удаляюсь, оставив Максима с бутылкой наедине.
Разговоры о политике хуже самой политики. Это как разговоры о погоде: можно обсудить, когда не о чем разговаривать с соседом по вагону, но от разговоров погода не меняется. Наверху свои планы на всё, и я не хотел подсматривать за эти кулисы. Когда мне говорили, что, если не интересуешься политикой, однажды она заинтересуется тобой, я лишь молча кивал, создавая впечатление неблагодарного за такие инсайды человека. А всё потому, что мне было интересно жить настоящей жизнью, с личными каждодневными делами и проблемами. Я, в отличие от Максима, не собирался идти к миражам, сжигать нервные клетки своего времени высокими идеалами демократии, под опасливые выкрики «Проснись, Усландия!»
Прохладный вечер. Слишком много людей. Стараясь избегать толп, медленно иду к зданию театра оперы и балета. Мне нравятся старые постройки, их архитектура, запах. Однажды, когда мне было лет пятнадцать, мы летали в Барселону. Первый и последний раз за границей всей семьёй. Возможно, поэтому впечатления остались на всю жизнь. Гауди впечатлял всех. Старинные здания успокаивали. Они словно говорили со мной. И их сущность не скрыть за новой отделкой…
Я посмотрел афишу. На последний спектакль опоздал.
Разболелась рука. Когда Серёжу увозили в морг, проходящий мимо санитар говорил другому: «Одним психом меньше». Я ударил его в живот и ещё раз по лицу. Я с прискорбием приветствовал возвращение своей пылающей агрессии. Когда нас растащили, санитар большими глазами смотрел на меня, а потом просто махнул рукой и пошёл в туалет смывать кровь с лица. Я спокоен.
Правая рука болела. Начальство замнёт. А может, нет. Сейчас и на это плевать.
Постояв у фонтана несколько минут без движений, я достал телефон и набрал Алину.
– О, какие люди, – не особо радостно произносит она.
– Как дела? – несоответственно бодро спрашиваю я.
– Да нормально. Папа немного приболел.
– А… – я словно не слышу, о чём она.
– А ты что?
– Да так. Решил в театр сходить. Опоздал.
– Приезжай в гости.
Я молчал. На том конце было слышно, как Лиза, младшая дочка Алины, пела что-то на английском.
– Малая неплохо поёт.
– Ну да, не в меня точно.
– Да уж, танцевала ты всегда лучше, чем пела. Кстати, угадай, кто со мной рядом?
– Кто?
– Видела эту скульптуру возле театра? Отдыхающие балерины.
– Ааа, давно там не была.
– Одна из них так похожа на тебя.
– Такая же уставшая?
– Я помню, ты тоже так сидела, скинув пуанты, в пачке, закинув ногу на ногу.
– Когда это было?
– Сто лет назад.
– Сто лет назад, да…
Мы снова немного помолчали.
– Ладно, всем привет.
– Хорошо, а ты что звонил-то?
– Да так, просто.
– Паша… Приезжай.
– Может, завтра.
Не знаю, зачем я звонил сестре. Может, просто соскучился, а может, сейчас нужен был хоть небольшой спасательный круг, чтобы не свалиться в яму.
Когда я добрался до дома, первым делом достал аптечку. Высыпал несколько таблеток феназепама. Уже собирался закинуть их в рот, но тут зазвонил телефон. Грёбаный голосящий кусок пластмассы. Вера.
– Я зайду?
– С каких пор тебе нужно разрешение?
Я только успел убрать таблетки и снять рубашку, чтобы переодеться, когда вошла Вера.