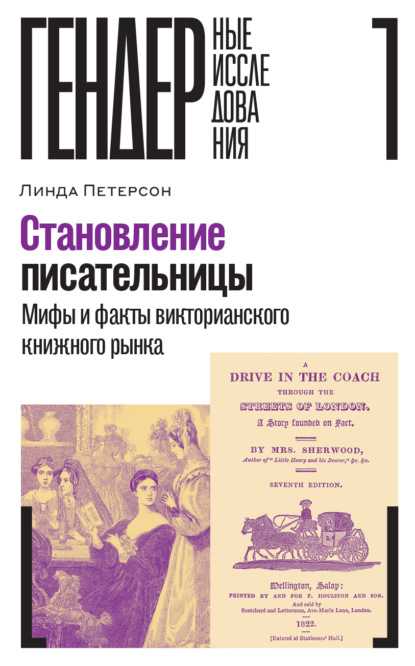
Полная версия:
Становление писательницы. Мифы и факты викторианского книжного рынка
Организовать обучение для десяти тысяч часовщиц, десяти тысяч учительниц младших классов, десяти тысяч квалифицированных бухгалтеров, еще десяти тысяч – сестер милосердия, прошедших подготовку под руководством Флоренс Найтингейл, несколько тысяч телеграфисток для контор по всей стране, около тысячи преподавательниц для технологических училищ и столько же чтиц, чтобы читать лучшие книги представителям рабочего класса, курсы для десяти тысяч женщин по работе со швейными и стиральными машинами88.
Считая, что женщины уже и так преуспели в литературном труде, Ли Смит фокусируется на «новых» женских профессиях. То же сделает позже ее коллега Паркс в «Очерках о женской работе» (Essays on Women’s Work) (1865) и авторы English Woman’s Journal в своих статьях 1850‑х – начала 1860‑х годов. Например, двухчастное эссе «Что могут сделать образованные женщины?» (What Can Educated Women Do?) 1859 года цитирует «Сообщество труда» Джеймсон и предлагает следующие новые области женской занятости: больницы, тюрьмы, исправительные учреждения, работные дома, учебные заведения и фабрикиa. О журналистике, написании романов или других формах оплачиваемой литературной работы говорится мало.
Это поколение молодых писательниц и художниц рассматривает литературу просто как доступную профессию. Они ссылаются на нее как на область, в которой женщины уже достигли успехов. В петиции 1856 года о законопроекте, касающемся имущества замужних женщин, Ли Смит утверждает, что «образованные замужние женщины работают в различных областях литературы и искусства, чтобы тем самым увеличить доход семьи» и что «профессионально занимающиеся искусством женщины получают значительный доход»89. В «Очерках о женской работе» (1865) Паркс отмечает:
Литературой, как профессией, занимается гораздо больше женщин, чем читатели могут себе представить. Их трудами заполнены современные журналы, и именно их перу обязано двумя третями своего содержания одно из наших старейших и лучших еженедельных периодических изданий. Даже ведущие [редакторские] статьи регулярно пишут женщины, и издатели регулярно обращаются к женщинам за всеми видами переводов и компиляций90.
Тридцатипятилетняя журналистка Паркс в 1865 году удивительно похожа на Льюиса в 1847‑м: претендуя на профессиональный статус, она подробно описывает женские достижения в области литературы и подчеркивает роль периодических изданий в развитии женского профессионализма в области литературы. Подобно Льюису, она указывает на то, что литература никогда не станет профессией, в которой работает по-настоящему много женщин.
Однако женщины, работающие в сферах литературы и искусства, не должны забывать, что они всегда будут оставаться в меньшинстве даже среди квалифицированных специалистов. Кажущиеся средними способности к писательству и умение систематизировать идеи на самом деле являются редким интеллектуальным талантом. Среди мужчин художников и писателей немного: среди непрофессионалов можно насчитать тысячи, средних писателей – сотни, а гениев – десятки. В то же время, когда мы говорим о безработных женщинах, речь идет о десятках тысяч91.
Наблюдение Паркс – краткое отступление в главе о «профессии учителя» – поднимает проблему, с которой столкнулись женщины в середине викторианской эпохи, когда заявили о своем праве на профессиональные занятия литературой. Если бы они апеллировали к тому, что авторство является расширением традиционных способностей и обязанностей женщин, как бы они могли ограничить профессию лишь достойными и, как выразился бы Льюис, исключить праздных и непригодных? Как они могли подняться над дилетантским уровнем и претендовать на высокие литературные достижения? То, как Паркс пишет о гениальности, дает ключ к пониманию ее стратегии – стратегии, подхваченной также ее преемницами (см. главу 4). Ее коллега Анна Мэри Хоувитт предложила еще одну стратегию – стратегию сотрудничества, которая началась с процесса изучения литературы и распространилась на женское художественное творчество (см. главу 3).
Таким образом, в середине XIX века мы наблюдаем разные модели профессионального литературного творчества, разные мифы о женщине-литераторе, но все они более или менее вращаются вокруг идей о работе в качестве служения обществу и работе как средства самореализации, автономности и самостоятельности. В тот же период мы наблюдаем, что женщины-профессионалы занимали различные позиции по отношению к институциональным связям и гонорарам. Возможно, потому, что писатели меньше, чем объединившиеся в Королевской академии художники, испытывали потребность в сообществе, стимул для включения женщин-литераторов в профессиональные учреждения был тоже меньше (хотя среди первых 100 членов Общества британских авторов и значилось 15 женщин, включая мисс Эджворт, миссис Джеймсон, мисс Митфорд и мисс Мартино)92. В итоге мы видим, что женщины в середине XIX века, с одной стороны, заявляют о необходимости зарабатывать деньги и сохранять правовой контроль над своими доходами, но, с другой стороны, о том, сколько им нужно зарабатывать, высказываются очень сдержанно. Ли Смит, конечно, писала, что замужние женщины зарабатывали деньги для увеличения семейного дохода, но не сообщала никакой информации о размере их гонораров – по крайней мере, не публично.
Эпоха профессионализма: Общество авторов, дебаты о литературе и восхождение писательницы
«1880‑е были решающим десятилетием для профессии писателя», – так пишет Виктор Бонэм-Картер в «Авторах по профессии» (Authors by Profession )93. Бонэм-Картер выделяет именно это десятилетие, потому что 1884 год знаменует собой основание Общества авторов, под эгидой которого было опубликовано его двухтомное исследование и историю которого он рассказывает. Десятилетие это также ознаменовалось историческими событиями в области авторского права: три международные конференции по авторскому праву состоялись в швейцарском Берне, и в 1886 году девять стран ратифицировали международное соглашение об авторском праве (Соединенные Штаты присоединились к нему только в 1891‑м). В отличие от индивидуализма 1840–1850‑х годов 1880‑е были десятилетием институционализации. Авторы объединились с целью объявить себя профессиональной группой, назначить президента и почетного секретаря, сформировать управляющий комитет, учредить журнал, писать о профессиональных проблемах и деятельности, лоббировать законы об авторском праве и тем самым (как они надеялись) защищать свои права. Как писал в своем «Девятнадцатом веке» (The Nineteenth Century) Уильям Мартин Конвей:
[Общество авторов было основано] для поддержания и защиты законных интересов и прав [авторов] и существует для сбора информации и предоставления членам общества советов и помощи. Оно [Общество] рассматривает соглашения и разъясняет их фактическое значение и то, как они будут работать <…> Оно существует и процветает, потому что отвечает потребностям сообщества и выполняет работу, которую необходимо выполнить94.
Как с гордостью сообщил в 1892 году на ежегодном собрании Уолтер Безант, активный член Общества и редактор его журнала Author: «В первый – 1884 – год платных членов было всего 68, в 1886 году – лишь 153, через три года нашего существования, в 1888 году, нас было 240, в 1889‑м – 372, в 1891‑м – 662, а на данный момент, в 1892 году, – 870»95.
С социологической точки зрения авторство как профессия достигло «совершеннолетия» с созданием этих институтов и инициатив. Если использовать терминологию Шелдона Ротблатта, оно перешло от «статусного профессионализма» (status professionalism) к «профессионализму по роду деятельности» (occupational professionalism)96. С исторической точки зрения мы могли бы сказать, что авторство полностью приняло модель литератора как человека дела, первоначально намеченную в портрете Уильяма Джердана в галерее Fraser’s. Но следует добавить, что одновременное, с какой-то точки зрения парадоксальное и противоречивое стремление «исключить» литературу из сферы бизнеса также возникло в 1880‑х. Это проявилось и в идеологии эстетизма (искусство ради искусства) Уолтера Хорейшо Патера, Данте Габриэля Россетти и Оскара Уайльда, и в усилиях таких людей, как Джон Морли, чья серия «Английские литераторы» (English Men of Letters) знакомила читателей с биографиями великих прозаиков (следовательно, с историей «истинных» литературных достижений): Сэмюэла Джонсона (1878), Эдуарда Гиббона (1878), Вальтера Скотта (1879), Эдмунда Берка (1879), Джона Беньяна (1880), Джона Локка (1880), Джона Драйдена (1881), Чарльза Лэма (1882), Томаса ДеКвинси (1882) и др.a Как отмечает автор Cornhill Magazine в статье «Литератор последнего поколения», «глубокое чувство солидарности неразрывно связывает всех истинных членов братства, чьи высочайшие достижения отмечены посмертно»97. В конце XIX века в Великобритании появилась необычная практика – посмертное присвоение профессиональным авторам дипломов. Это был популярный способ публично признать вклад интеллектуалов в британскую культуру и повысить их статус как литераторов98.
Для профессионального признания писательниц 1880‑е оказались решающим десятилетием. Несмотря на то что в первых организационных собраниях Общества авторов, проводившихся тогда в Savile Club для джентльменов, женщины не участвовали, писательниц пригласили присоединиться к организации с момента ее официального основанияa. Согласно ранним записям, среди первых 68 членов-учредителей художественную литературу наряду с Уилки Коллинзом, Чарльзом Ридом и Ричардом Блэкмором в обществе представляла Шарлотта Мэри Янг. К концу 1880‑х (отчасти благодаря настойчивому стремлению женщин участвовать в организации) в правящем комитете заседали: в 1888 году – Генриетта Стэннард (известная как Джон Стрендж Винтер), в 1891‑м – миссис Хамфри Уорд, а в 1892 году – Мари Кореллиb. К 1896 году этот комитет избрал женщин в совет, который обладал решающим влиянием на управление Обществом авторов. Среди них были Шарлотта Янг, Элиза Линн Линтон и Мэри Огаста Уорд (известная как миссис Хамфри Уорд). Это официальное представительство в Обществе авторов сопровождалось дополнительными упоминаниями в книгах и периодических изданиях. Обращаясь в пособии «Перо и книга» (1899) к «молодежи, которую манит литературная жизнь», сэр Уолтер Безант включает в ряды этой молодежи и молодых женщин. Его огромная «литературная армия» («это тысячи перьев <…> [которые] работают каждый день») включает в себя «приходских священников», равно как и их «жен и дочерей», «профессионалов, государственных служащих, клерков», а также «дочерей из городских и сельских семей среднего класса» и «пожилых одиноких женщин, которые горячо желают немного увеличить свой доход»c. Если Льюис в 1847 году использовал военную метафору, чтобы упрекнуть «бесчисленное множество разгневанных самозванцев», «напоминающих армию Ксеркса»99, Безант в 1899 году – и в предшествующее десятилетие – был счастлив прославлять эту огромную литературную армию, начиная с нижних ступеней, пишущих для копеечных газет, до профессиональных журналистов, романистов и поэтов, независимо от их полаd.
Стратегия Безанта – включение женщин в Общество авторов, признание в статьях и книгах писателей всех типов и сортов, укрепление чувства солидарности (его слова) в их рядах – отражает его мнение о том, что литераторы должны прекратить нападки друг на друга в частном порядке и в печати, а вместо этого сплотиться против издателей и книготорговцев. Если использовать модель культурного производства Пьера Бурдье, Безант пытается стереть различия между авторами, основанные на иерархии жанров (поэзия вверху, серийная беллетристика и популярная драма внизу), и отказывается признать оппозицию между «символическим» и «экономическим капиталом». В результате, согласно схеме того же Бурдье, по мере роста аудитории и снижения ее специфической компетентности растет дискредитация произведений100. Вместо этого, почти так же, как это делает современный историк печати и книжной культуры Роберт Дарнтонa, Безант в «Пере и книге» рассматривает многочисленных участников книжного производства и объясняет их функции, указывая на их конфликты с другими группами с конкурирующими интересами, а не на внутренние противоречия между самими авторами. Как видно из названия доклада конференции Общества авторов 1887 года «Трения между авторами и издателями» (The Grievances between Authors & Publishers), целью правления было перенаправить внимание авторов на внешних врагов. Для Безанта писатели – «производители» или «создатели» литературной собственности, «чего-то, что имеет рыночную стоимость и открыто покупается и продается так же, как и добрые плоды земли», а издатели – только «распорядители великой литературной собственности, созданной авторами»101. В «Проспекте Общества авторов» (Prospectus of the Society of Authors), широко распространяемом через почту, затем опубликованном в Author, а затем включенном в качестве приложения в «Перо и книгу», Безант подчеркивает, что основатели Общества «руководствовались двумя ведущими принципами»: «отношения между автором и издателем должны быть раз и навсегда выстроены на основании четких и справедливых правил» и «вопросы авторского права – национального и международного – должны непрерывно оставаться в общественном сознании»102. Безант выстраивает оппозиции относительно более широкого поля власти, не концентрируясь на менее значительных конфликтах в художественных иерархиях.
Несмотря на основание Общества или, возможно, даже благодаря периодически возникающим вокруг него дебатам, концепции авторства и статуса писателя широко обсуждались, хотя и оставались нерешенными на протяжении 1880–1890‑х. Будучи редактором Author, Безант демонстрировал уверенность, оптимистично указывая на значительный прогресс, достигнутый писателями XIX века в плане экономического и социального статуса, а также общественного признания. По словам Безанта, профессия писателя «в долгосрочной перспективе действительно обеспечивает человеку больше достоинства и уважения, чем любая другая работа, если не считать церковь»103. Он представил карьеру современного Чаттертонаa, показав ее в развивающей последовательности, начиная с журналистики, чтобы «ему не было ни малейшей опасности умереть от голода», и дальше – через книжное издание до должности редактора периодического издания или «влиятельной утренней газеты»104. Безант отмахивается от тревог по поводу переполненности профессии, уверенно глядя на расширяющиеся мировые рынки, указывая, что «возможная аудитория популярного писателя в настоящее время составляет огромное число 120 миллионов» – по сравнению с пятьдесятью тысячами в 1830 году105. Он также приводит пример Теннисона, возведенного в звание пэра в 1883 году, в качестве противопоставления ничтожным пенсиям времен Георга IVb. Он к тому же мудро убедил Теннисона стать первым президентом Общества авторов, чтобы «пэр и поэт» официально представлял их кружок. По мнению Безанта, экономические, профессиональные и социальные награды были доступны юношам и девушкам с талантом, которые относились к литературной деятельности серьезно и профессионально – «в серьезном духе»106.
Уверенность Безанта вызывала предостерегающие, а иногда и едкие нападки. В частности, издатели возмутились тем, что Общество авторов де-факто являлось профсоюзом. В июне 1884 года специализированный издательский журнал Bookseller шутливо сообщил о создании «Общества по предотвращению жестокого обращения с писателями», в цели которого входило «принуждение издателей публиковать все присылаемые им рукописи; установление бессрочного авторского права, введение обычая ежедневных платежей авторам и предоставление им ежедневных отчетов о продажах, обеспечение того, чтобы авторские права возвращались писателям, когда издатели начинали получать от книг слишком большие доходы» и т. п.107 World опубликовал сатирическое стихотворение в том же духе:
Несколько писателей встретились на дняхВ студии на Гаррик-стрит в частных номерах.Торжественно раскланялись, торжественно клялисьНе шевельнуть и пальцем всю оставшуюся жизнь 108.Даже десятилетие спустя издатели продолжали насмехаться над деятельностью Общества, считая ее недостойной и корыстной. Например, статья Томаса Вернера Лори «Автор, агент и издатель. От одного представителя торгового сословия» (Author, Agent, and Publisher, by one of The Trade) в Nineteenth Century от ноября 1895 года. Издатель Джорджа Мура, Арнольда Беннетта и Уильяма Йейтса, Лори отверг «профессионализм» Общества авторов и приписал его «успехи» тому, что непрофессионалы могли наслаждаться «возможностью за небольшую ежегодную плату добавить к своим подписям несколько буквa и получать своего рода лицензию на то, чтобы называть себя авторами»109. Он также активно критикует профессиональных агентов, называя их «паразитами» и «неприятным наростом на литературе». В ответ на это Безант в декабрьском номере утверждает, что задача агента – управлять делами автора, освобождая его от «тревог и неурядиц», чтобы тот мог сосредоточиться на творчестве110.
Эти дискуссии между писателями и издателями представляют большой интерес для современных исследователей и стали центральной темой недавних публикаций, посвященных вопросам профессионализма на рубеже XIX–XX веков111. Они противопоставляют авторов-профессионалов дельцам-издателям. Но эти дискуссии не должны затмевать более тонкие, нерешенные вопросы об авторстве, возникавшие (или вновь оживившиеся) в этот период: вопросы об истоках литературы и литературного творчества, о разнице между экономической и художественной ценностью произведения, о популярности и уважении критиков.
Действительно, «Литература» (с большой буквы) и «Автор» (с большой буквы) стали повторяющимися темами для периодических изданий. Например, неподписанное эссе «О начинающем авторе» в Quarterly Review рассматривает первые семь номеров редактируемого Безантом The Author (1890–1897) и бросает вызов доминировавшему на страницах журнала деловому подходу к литературе. Неподписавшийся рецензент (Ч. С. Оукли) проводит уже общепринятое на сегодня разграничение между «журналистикой» и «литературой»: первая – «дела повседневные», «повествование о сиюминутных проблемах в общедоступной манере», вторая – «словесное выражение… оформленное так, что, хотя содержание со временем может устареть, форма будет сохранять интерес… для последующих поколений», – и утверждает, что деловой подход Безанта применим к журналистскому письму, но импульс письма литературного совсем иной: «…для истинного писателя – литератора, а не журналиста – существует множество мотивов, побуждающих его заниматься своим ремеслом и стремиться к совершенству, даже если он не получает за это никакого вознаграждения»a, 112. Главный импульс к любому истинному литературному труду, настаивает Оукли, содержится во фразе Facit indignatio versumb, – настаивает с возмущением, пронизывающим его эссе в разных формах: как несогласие, негодование, обида, жжение внутри и потребность высказаться113. Цитата из «Сатир» Ювеналаc свидетельствует о том, что рецензенту близка старая, более традиционная концепция автора и он ссылается на мысли и эмоции, которые побуждают к работе «подлинных литераторов». Этой цитатой Оукли намекает, что великие авторы прошлого лучше понимали истинный фундамент писательства, чем менее известные современные ему писатели уровня Безанта. Если вы не можете прочесть и понять эту латинскую строку, вы как бы исключаете себя из категории «подлинных литераторов». Он использует слово «призвание», за которым пускается в рассуждения об авторе как о «жреце в обширной естественной Церкви», подчеркивает высокое предназначение литератора и, напротив, отвергает «коммерческий аспект» журналистики с ее низшими, второстепенными мотивами114. Моубрей Моррис, постоянный автор журнала Macmillan’s Magazine, в 1880‑х повторяет идею о различии между литературой и журналистикой в статье «Профессия писателя» (1887). Для обозначения писательства он использует старомодное выражение profession of letters, чтобы подчеркнуть ученость, которой, по его мнению, недоставало современной периодике115.
Эти противопоставления: литература против журналистики, жречество против бизнеса и торговли, высокое искусство против коммерческого производства, литературная классика против статей-однодневок – все это кажется таким знакомым. С одной стороны, они оглядываются на романтические представления об авторе с его природным талантом, художественными страданиями, жреческим призванием и служением читателю, с другой – призывают к новому разграничению между высоким и популярным искусством, одиноким артистом и успешным буржуазным профессионалом, джойсовским творцом из «Портрета художника в юности» и писакой из New Grub Street Гиссинга. Они, похоже, также коррелируют с двумя принципами иерархизации, предложенными Бурдье в анализе поля литературы во Франции XIX века:
…гетерономным принципом, который благоприятствует тем, кто экономически и политически доминирует в поле (например, «буржуазному искусству»); и автономным принципом (например, «искусством для искусства»), который его сторонники из тех, кто обладает меньшим специфическим капиталом, как правило, связывают с некоторой независимостью от экономических условий. Во временном провале они видят знак избранничества, а в успехе – признак компромисса116.
Тем не менее, несмотря на всю очевидность сходства, я хочу остановиться на дискуссии 1880–1890‑х годов, чтобы понять ее не в простых бинарных оппозициях, а во всей сложности и полноте и выявить ее влияние на самовосприятие авторов и их публичную самопрезентацию, особенно для женщин. Тем более что в 1880‑х литературное поле Англии не было так четко очерчено, как в теоретических моделях Бурдьеa.
По мнению Безанта, журналистика и литература – не противоположные полюса, а этапы последовательного профессионального развития. Эти формы литературного творчества не исключают друг друга, а гармонично сочетаются. В «Пере и книге» Безант описывает картину, в которой писатель или писательница одновременно занимается и журналистикой и литературой. Мужчина (или женщина, «поскольку многие женщины теперь тоже принадлежат к этой профессии») каждое утро входит в свой кабинет «так же регулярно, как адвокат в свою контору». Подобно тому, как адвокат ведет несколько дел одновременно, современный профессиональный писатель берется за разнообразные литературные задачи:
…две или три книги ожидают рецензии; рукопись ждет оценки; собственная книга ждет доработки – возможно, биография великого умершего писателя для серии; надо также дописать обещанную журналу статью, а еще статью для Национального биографического словаря; возможно, еще и незаконченный роман, которому надо уделить как минимум три часа117.
Для Безанта какие-то задачи могут быть ближе к «журналистским», другие – к «литературным» (хотя он и избегает этих терминов), но он не считает эти модели работы взаимоисключающими. И не все они относятся, если говорить словами Бурдье, к art moyen (популярному искусству), которое характеризуется подчиненным положением производителей культуры по отношению к тем, кто контролирует производство и распространяет его продукты118.
Даже Оукли, автор консервативной рецензии для Quarterly, не возражает против журналистики как таковой. Он признает, что Кольридж был «поистине великим литератором», а также «выдающимся журналистом», таким образом не отрицая, что литератор может быть одновременно и тем и другим. Не предполагает Оукли и того, что зарабатывание денег несовместимо с созданием великой литературы: «Если мы не хотим, чтобы люди умирали от голода, конечно, необходимо думать и о чеках»119. Оукли скорее не согласен с методами, которые рекламирует и советует молодежи Безант: журналист «поставляет издателю тысячу слов за два шиллинга», или эссеист и поэт пишет на заданную тему. «Нужно решительно выступить против набирающей обороты тенденции воспринимать труд писателя как попытку быстро удовлетворить запросы аудитории ради заработка». Для Оукли, как и для Карлайлаa, которого он цитирует, «настоящая книга выходит из огня в нутре писателя»120. Оукли саркастически добавляет: «Если бы я был издателем, которому предложили тысячу слов за два шиллинга, я бы предпочел заплатить четыре шиллинга, чтобы этих слов не видеть, и я бы выложил деньги и так и сказал»121. Безант и Оукли спорят о стиле жизни писателя, о методах работы и о том, что необходимо для создания хороших произведений, а также о представлении автора о самом себе и его самопрезентации. Их дискуссия предвосхищает модернистское различие между страдающим, одиноким художником и успешным автором среднего класса, но эта оппозиция еще не сформировалась.
Что касается привычного ныне противопоставления финансовых успехов художественным достижениям – в терминах Бурдье, успехов в «субполе широкого производства» успехам в «субполе узкого производства», – Безант не считает их конфликтующими. Обсуждая авторские права, он, правда, отделяет литературную ценность от коммерческой, но не рассматривает их как взаимоисключающие и не считает, что между ними можно установить какую-либо пропорцию. В «Сохранении литературной собственности» (The Maintenance of Literary Property) (1887), например, он заявляет, что «существует два вида литературной собственности». Один из них, «символизируемый Лавром», автор обретает однажды и уже не может утратить. Другой вид – это коммерческая собственность, которая может быть «не столь возвышенной и благородной». Она представляет собой прибыль от продажи произведений автора. Однако «автора могут лишить этой прибыли, как часто и происходит»122. В «Пере и книге» (1899) Безант опускает ссылку на коммерческую ценность как на «не столь возвышенную и благородную», но все же настаивает на том, чтобы авторы различали «литературную ценность произведения и его коммерческую стоимость. Между ними не должно быть никакой связи»123. Его подход избегает противопоставления высокого и популярного искусства, часто продвигаемого модернистскими писателями, или доли мира «экономики наоборот» в культурном производстве, который описывал Бурдье столетие спустя.

