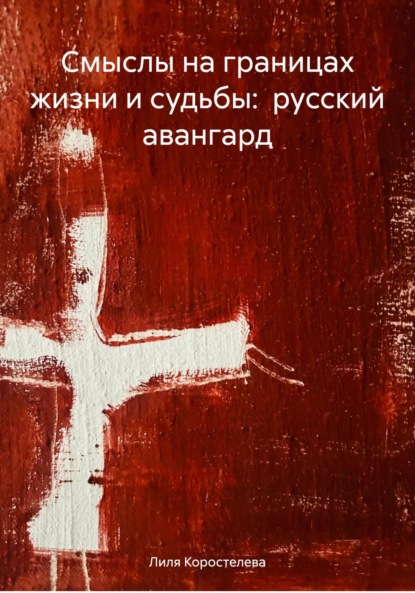
Полная версия:
Смыслы на границах жизни и судьбы: русский авангард
Оценку жизнетворчества символистов представил их современник Д. Мережковский. В статье “Балаган и трагедия” он замечает, что, не смотря на то, что русские декаденты (символисты) считают себя революционерами в искусстве, ничего принципиально нового они не привносят в эту сферу, с точки зрения литературной. Русское литературное декадентство реакционно, а не революционно: “рабское, старое, которое хочет казаться мятежным и новым”27. Русские символисты, в своем стремлении уйти от “общих мест”, оторваться от общеупотребительного и понятного, говорят “непонятно о понятном”. Что же касается теории жизнетворчества и различных способов доведения жизни до определенного состояния, в котором сама эта жизнь превращалась бы в произведение искусства, в поэму или стихотворение, то это несло, по мнению Мережковского, свои отрицательные последствия. Трагедия была превращена в балаган в сознании русских символистов, стремившихся и из этой “истории” (имеется в виду русское революционное движение и политические последствия) сделать очередную свою. Причиной же такого отношения стало изменение в сознании, произошел некий надлом в душе, после которого наметилось “превращение трагедии в балаган”28. Балаган – в сердце, в душе, его исток – тотальное неверие в происходящие события, а главное, в катастрофические последствия, которые можно было предупредить, если бы не всепожирающий и омертвляющий нигилизм и безверие. Что-то сорвалось в душе человека, что-то сорвалось в душе России и следовало говорить в это время понятно о понятном, а не о “лиловых туманах”29. Желание быть не как все, страх общих мест, по мнению Мережковского, нанес огромный вред движению символистов в России.
Россия – такая страна, в которой все, любой жест и слово, особенно когда оно претендует на значимость, может расцениваться тысячами, как пророчество, как призыв к действию. Лидером здесь зачастую становится тот, кто смел в своих высказываниях. И если с высоты интеллектуального сознания отрицается значимость того или иного события (“революция – тошнота после пира”), если пропагандируется отказ от общественной деятельности в угоду утонченных интеллектуальных изысков, тогда, по мнению Мережковского, трагедия будет продолжаться: “И не видят они, что если в душе у них “сорвалось” кончилось “балаганом”, то в России продолжается трагедия”30. Не смотря на критику в адрес символистов, Мережковский отмечает, что основные процессы в русской культуре начала века протекали исключительно благодаря символистам: “Почти все движение русского сознания совершалось в этой именно жалкой кучке отверженных, осмеянных и, действительно, часто смешных романтиков. Сердце века, сердце поколения билось в них”31.
Символисты соединили в своем творчестве и мировидении два мира: мир чувственный с миром трансцендентальным, они обозначили поворот в сторону религиозного сознания, что было чрезвычайно созвучно тем поискам, которые велись в области русской религиозной философии Вл. Соловьевым, П. Флоренским и др. Символ стал путеводной нитью из мира реального в мир теургический и религиозный. Символисты разоблачили позитивистские устремления эпохи, показав истинный путь русского сознания. Русский человек не может жить, не отыскав смысла жизни. Вновь зазвучал вопрос о смысле, поставленный еще Достоевским и Толстым, а потом и русскими религиозными мыслителями. Символизм оказал существенное влияние на возникновение заинтересованности в русском культурном сознании тематикой смысла, символа, глубинных напластований культуры, ее ценностей.
Символисты не были дружны с представителями параллельно развивавшегося авангардизма, но, тем не менее, в начале века все наработанное символизмом творчески переосмысляется в русском футуризме (Хлебников, Крученых) и авангардизме (Обэриуты, чинари). Возникает определенная динамика мысли и творческого усилия. В основе данного процесса сосредоточенность на двух основных концептуальных идеях, характерных для символизма и авангардизма. Это идея целостности, как мировоззренческий и экзистенциальный принцип и идея преодоления автоматизма мысли и языка, как творческий принцип. Мы уже обращали внимание на то, что идея целостности, имеющая своими корнями русскую метафизическую мысль и традиционное религиозное мировосприятие, находится в основе символизма. Что касается авангардизма, то здесь обеспокоенность этой идеей возникла в условиях кризиса культуры и экзистенциального кризиса начала века. В авангардизме появляется оригинальный опыт философствования с экзистенциальной проблематикой. В рамках этого опыта актуальной становится тема “собирания”, нахождение себя на фоне “осколочности” мира и культуры. Актуализируется проблематика преодоления экзистенциального кризиса. В авангардизме она развивается в параллельном движении не только с символизмом (теория жизнетворчества), но и с аналогичными исканиями в русской философской мысли.
Тема преодоления автоматизма мышления объединяет философскую эстетику символизма и авангардизма. Возникает тенденция, связанная с движения против “доксы”, некоего устойчивого и привычного “мнения”, остова культуры. Докса, как объект критики уже в античной мысли, рассматривается в своем первоначальном виде не иначе, как препятствие на пути к истине. Аристотель, вспомним, описывает феномен “авангардной” для сознания греков античной трагедии как действия, которое должно структурироваться на событиях удивительных, “немыслимых”, неожиданных, происходящих “вопреки ожиданию”32, т.е. доксы. Только принципиально новое явление в горизонте культуры претендует на статус парадоксального, коим собственно и была наделена упомянутая нами античная трагедия, а в рамках современной отечественной и западноевропейской культуры таким парадоксальным явлением становится авангард.
Например, в философском опыте чинарей тема преодоления автоматизма восприятия и понимания мира отчетливо проявляется у Я. Друскина, который замечает, что наш ум накладывает на мир некоторую сетку: “эта сетка и создает предметность мира <…> каждый видит мир по-своему, но у большинства людей видение мира, их сетки не различаются так сильно, чтобы они не понимали друг друга” 33. То же касается и пределов, устанавливаемых языком. “В каждое мгновение я имею старую сетку привычных слов, наложенную на мир. Понять мир – значит, отказаться от старой сетки. Но без сетки я вообще не вижу, поэтому понимание – в замене старой сетки новой”34. Данные высказывания можно охарактеризовать, как противостояние любым проявлениям автоматизма в жизни, творчестве, языке. Примером преодоления автоматизма в форме ухода от предустановленных культурных, в частности лингвистических норм и правил, выступает творчество русских футуристов. Крученых использует термин “сдвиг”, который, с одной стороны, свидетельствует о начавшемся процессе разрушения языка, его искусственной деформации в авангарде, а с другой стороны, является необходимой ступенью в деле обретения смысла, который не может быть ни доступен, не понят в готовом уже виде, но требует усилия и работы по его нахождению. Сдвиг способствует уничтожению смысла, но смысл должен быть вновь обретен. Теоретически данная проблема нашла отражение в идее словотворчества, разработанной Хлебниковым.
Для символизма опыт преодоления автоматизма мысли сопряжен с особенностями отношения к проблеме сознания. Как отмечает Белый: “Сознание есть первичная и единственно данная нам интуиция целого <…> это “Я”35, или самосознание. Сознательная жизнь является единственной культурной формой человека, не сопряженной с его природными основаниями: “Культура противополагаема природе как известное жизненное творчество, оформленное, сформированное сознанием”36. Сознание структурирует, соединяет отдельные части в целое. Белый неоднократно возвращается к теме преодоления автоматизма мышления, понимая, что причиной “распадающегося сознания” является автоматизм мысли. Если бы можно было, пишет он, преодолеть автоматизм мышления, то можно было бы впервые увидеть самого себя, как “Ты”, то есть впервые посмотреть на самого себя со стороны. Для Белого это означает акт снятие маски, ведь маска ничто иное, как данная мне картина мира. Взгляд без маски – взгляд “меня подлинного на меня эфемерного”37, свидетельство серьезной работы сознания. Белый пишет о необходимости творческого отношения к жизни, которое для него возможно лишь при условии изъятия старых напластований чувств, привычек, состояний и настроений. Жизнь, если ее понимать, как процесс работы сознания требует своей “переработки”, иначе навыки и привычки, воспроизводящиеся “автоматично” возьмут верх, заставят жить их жизнью.
Продолжая тему преодоления автоматизма, отметим, что в области языка можно обнаружить ряд предвосхищений символизмом будущих авангардистских “открытий” в области языка. Первые теоретические обоснования беспредметного творчества были “нащупаны” символистом Белым еще до того, как появилась заумь и беспредметное искусство. По воспоминаниям друга Белого, будучи на море тот был очень увлечен сбором камней. Собирал он камни, как художник, обращая внимание на колорит, оттенки, форму, фактуру. Создавал впоследствии целые композиции их камней, словно мозаист: “глядя на них, постигал колорит и оттенки своей словесной живописи”38. Ту же страсть он питал к листьям: собирал, сортировал и раскладывал, подбирая по тонам. В письмах к Зайцеву, Белый сетует на косность языка, не способного отразить, например, истинную красоту пейзажа: “Чтобы передать хоть тысячную долю подлинно видимого необходим ряд этюдов со словами, т.е. усесться, взять карандашик и ловить нехватающие тебе для зарисовки слова, чтобы получился лишь чудовищно-дикий этюд, ученический, бухающий по уху и глазу супер-футуристическими несуразицами; но только через такую неотредьяковщину ведет узкая стезя к новому искомому натурализму языка, по-новому соединяющему глаз и ухо, имажинизм и футуризм”39. Белый признается, что несколько раз принимался за такую работу, пытаясь воспроизвести с помощью своего метода красоты Кавказа. “Над дорогою тулощатся кулачины – с дом: вылобились и долбней, и дылдней перепера; и бурая там скребоварина; ребра – раскряк углоплитов (земля – многоплитица)”40. Язык описания напоминает опыты заумной речи. Он не в восторге от этих опытов, в чем и признается другу, но считает их необходимой подпоркой для перехода от реализма к “нео-реализму”.
Немаловажно то, что символизм и авангардизм сталкивает нас с парадоксом “длительного действия”. Назовем его эпохальным парадоксом, ибо проявляется он принципиально одинаково, хотя и в различных культурных явлениях. В символизме и авангардизме рождается новый образ героя, заинтересованного самим собой, удивленного возможностью появления чего-то нового. Меняется язык и тематика творчества. Многие, табуированные прежде темы, связанные с описанием глубоких экзистенциальных состояний, настроений, становятся актуальными, но не в наготе своей, а в рамках символической обусловленности.
Активным творческим порывом движет новая ритмика жизни, счастье узнавания себя неузнанного, обойденного, недопонятого, прошедшего сквозь пласты стагнации и пассивного отношения к жизни. В авангард многие подобные интуиции не попали вдруг, не пришли как-то исподволь, но стали продолжением той динамики мысли, которая заявила о себе уже в русском символизме. Жизнь – не просто жизнь, но глубина; автор – демиург, мистификатор, создатель теории жизнетворчества, словотворчества, мифотворец, стремящийся проникнуть в глубину смысла, символа и т.д. Символисты, а вслед за ними и авангардисты подвергают символизации различные феномены культуры и жизни, продуцируют своим творчеством настроение метафизического томления, поиска бытийных основ мира на фоне невозможности их обретения в сложившейся системе бытования культуры и мысли. Тема быта и бытия займет впоследствии ведущее место в русском авангарде.
Символизм и авангардизм имеют общие черты, они пронизаны философической направленностью в решении предельных мировоззренческих вопросов. Несмотря на то, что символисты не взаимодействовали с представителями параллельно развивавшегося авангардизма, в начале века все наработанное символизмом творчески переосмысляется в авангардизме. Возникает определенная динамика мысли и творческого усилия, сказавшаяся на характере философии и художественного творчества. В основе данного процесса сосредоточенность на двух основных концептуальных идеях, характерных для символизма и авангардизма, но имеющих своим истоком традиционное русское мировосприятие, нашедшее отражение в философии Вл. Соловьева и русской метафизической мысли рубежа веков. Это идея целостности, как мировоззренческий и экзистенциальный принцип и идея преодоления автоматизма мысли и языка, как творческий принцип.
Сдвиг бытовых пропорций в русском футуризме
Русские футуристы (будетляне) – Крученых, Братья Бурлюки, Хлебников и др. представляют особое явление в русской культуре. Именно так, как особое явление они сами себя и воспринимали. Их умами владела идея присвоения мира: “весь мир принадлежит мне!” Мир лежит, куда ни глянь, в предельной обнаженности, громоздится вокруг освежеванными горами, кровавыми глыбами дымящегося мяса: хватай, рви, вгрызайся, комкай, создавай его заново, – он весь, весь твой!”41. Когда мир твой, ты можешь в нем что-то менять, привносить в него что-то свое, “брать голыми руками”42 и осознавать себя представителем своего мира и своей эпохи. Подобный пафос соблазнителен.
Только с невероятной верой в себя, в свои силы можно было осуществить культурный сдвиг. В идее присвоения мира легко угадываются и символистские амбиции. Но в то время как символистам удалось создать некую общую философскую основу, оправдывающую подобные взаимоотношения с миром (Брюсов, Белый), футуристы боролись с ветряными мельницами, в том числе и с символистскими. Они не осмыслили в полной мере свой собственный богатейший теоретический инструментарий (адекватное теоретизирование по поводу зауми мы найдем лишь в текстах русских религиозных философов, а, что касается понимания ими теоретических идей своего вдохновителя Хлебникова, то, судя по сохранившимся замечаниям, эта работа оказалось для них затруднительной)43.
Теоретизирование не так сильно привлекало футуристов, потому что сама жизнь представлялась особым полем приложения дионисийских, по своему накалу, страстей. Знаки русского футуристического движения, т.е. движения с явным ускорением, с обескураживающим желанием обогнать свое время, обуздать его известны, – прокламативность, концепция сдвигологии, словотворчество, и через внешние атрибуты, – раскрашенные лица, эпатажное поведение, провоцирующий взгляды внешний вид. Достаточно взять в руки любую статью о русском футуризме44, чтобы тут же оказаться в этой стихии своеволия и своенравия, выпрыгивания из тесных штанишек, галстуков и ровных проборов. Но что стоит за этими внешними атрибутами, только ли внешний фарс, или что-то иное? Ведь футуризм отнюдь не исчерпывается театральным жестом. И в его основе не только новое отношение к языку и слову, но какое-то характерное для русской культуры мировосприятие, возвращающее через громкое заумное слово к тихому голосу одинокого поэта45:
Все читать заумь станут
Изучая мою ПОЭТИЧЕСКУЮ СУСТЕНЬ…
Радуйтесь же пока я с вами
И не смотрите грустными…46
И все же именно заумь принято считать визитной карточкой футуризма, в особенности же стихотворение Крученых из слов, не имеющих определенного значения и смысла (Дыр бул щыл – классика зауми). Или вот это:
Та са мае
Ха Ра бау
Саем сию дуб
Радуб мола
аль47
В программной для футуристов статье “Декларация слова, как такового” футуристы объявили: “новая словесная форма создает новое содержание, а не наоборот”48. Новая словесная форма – это часто только бессмысленное для постореннего уха сочетание звуков – гласных и согласных. Но не для футуриста. В новой словесной форме для него кроется куда как более серьезный смысл, ибо согласные здесь отвечают за “быт”, а гласные за бытие, “дают вселенский язык” (на этом вслушивании и всматривание в букву и звук выстроится впоследствии вся теория слова Хлебникова).
На повестке дня – сдвиг. Важно отметить, что программа по созданию вселенского языка, коей серьезно обеспокоено было футуристическое воображение, являлась программой утопичной. В этом плане ничего нового футуристы не привнесли в культурный и литературный процесс, и так до предела наводненный тематикой утопизма. Но форма, в которой они реализуют свою программу, и в которой уживается алогизм и абсурд, – все то, что появится в будущем в сюрреалистическом театре, в творчестве чинарей, ОБЭРИУТов и в абсурдистской драме, достаточно характерна для их миропонимания. В ней доминирует тема слома, или, как говорили футуристы, сдвига. Крученых спешит заявить: “сдвиг – стиль современности”49.
Не только поэзией, но футуристической живописью владеет идея сдвига. “Современная живопись покоится на трех принципах: дисгармонии, диссимметрии и дисконструкции. Дисконструкция выражается в сдвиге либо линейном, либо плоскостном, либо красочном”50, пишет художник-футурист Давид Бурлюк. Через синтез примитивного искусства, народного творчества, лубка, европейского кубизма и искусства первобытных народов, он создает свое особое художественное пространство, как бы “захваченное” им с разных точек зрения. Его художественный метод напоминает опыты Матюшина по теории расширенного видения51, но отличием является то, что Бурлюк, не выходя за пределы тематики мещанского быта (прачечные, парикмахерские, пивные, закусочные, провинциальные пейзажи) доводит бытовую тематику до более значимого, чем просто бытовые сцены, измерения. Способность видения с разных точек зрения одного и того же объекта отражается в стиле “канона сдвинутой конструкции”52
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Текст был опубликован в ином наименовании и под прежней фамилией автора в 2021 г. в ПетрГу (см. Экзистенциальный русский авангард, Кабанова Л.И.)
2
“…Сборище друзей, оставленных судьбою”. А. Введенский, Л. Липавский, Я. Друскин, Д. Хармс, Н. Олейников: “чинари” в текстах, документах и исследованиях. В 2-х т. Т. 1. М., 2000. С. 506.
3
Ахутин А.В. Рубеж 20 века. С. 683-384.
4
Бланшо М. Пространство литературы. М., 2002. C. 153-154.
5
П. Мансуров пишет, например: “Долой религию, семью, эстетику и философию” (см.: Мансуров П. Декларации. Манифесты, Переписка // Мансуров П. Петроградский авангард. Гос. Русский музей. СПб., 1995. С.40). Продолжает эту тему Кандинский: “Наша душа <…> таит в себе зародыш отчаяния – следствие бессмысленности и бесцельности” (см.: Кандинский В.В. О духовном в искусстве // Кандинский В.В. Точка и линия на плоскости. СПб., 2001. C. 24)
6
Жаккар Ж.-Ф. Хармс и конец русского авангарда. СПб.: Академический проект, 1995. С. 16.
7
“…Сборище друзей, оставленных судьбою”. Собр. Соч., В 2-х т. Т. 1. М., 2000. С. 741.
8
Д.В.Сарабьянов указывает, что рубеж, когда на смену символизму пришел авангардизм, – это 1900-1910-е годы. По его мнению, никто из авангардистов не избежал прямого или косвенного влияния символизма, хотя и были сформированы две основные позиции: разрыва с символизмом и поддержания преемственной связи с символизмом (см.: Сарабьянов Д.В. Символизм в авангарде. Некоторые аспекты проблемы // Символизм в авангарде М.: Наука, 2003. С. 5-9).
9
Соловьев В. С. Русские символисты // Философия искусства и литературная критика М., 1991. С. 506-518.
10
Cоловьев В.С. Красота в природе // Философия искусства и литературная критика / М.: Искусство, 1991. С. 42.
11
Cоловьев В.С. Красота в природе. С. 36.
12
Там же. С. 38.
13
Cоловьев В.С. Три речи в память Достоевского // Философия искусства и литературная критика / М.: Искусство, 1991. С. 230.
14
Белый А. Основы моего мировоззрения // Белый А. Душа самосознающая М.: Канон+, 2004, С. 28.
15
Бибихин В. В. Язык философии. М.: Языки славянской культуры, 2002. C. 204-205.
16
Иванов Вяч. Поэт и чернь // Иванов Вяч. Родное и Вселенское, М.: Республика, 1994. С.140.
17
Там же. С. 141.
18
Иванов Вяч. Две стихии в современном символизме // Иванов Вяч. Родное и Вселенское, М.: Республика, 1994. С.143.
19
Там же. С. 155.
20
Там же. С. 156.
21
Белый А. Как мы пишем. О себе как писателе // Андрей Белый. Проблемы творчества. Статьи. Воспоминания. Публикации. М., 1988. С. 20.
22
Отличительной чертой исследований Ходасевича стало углубление в экзистенциальную, а не признанную формально-литературоведческую проблематику культуры начала века, представленную Тыняновым, Шкловским, Якобсоном, Эйхенбаумом и Якубинским. В центре внимания Ходасевича – опыт “жизнетворчества” раннего символизма (см.: Ходасевич В.Ф. Некрополь. Литература и власть. Письма Б.А. Садовскому. М.: GG, 1996).
23
Ходасевич В.Ф. Некрополь. Литература и власть. Письма Б.А. Садовскому. С. 19-20.
24
Там же. С. 19.
25
Там же. С. 22.
26
Там же. С. 22.
27
Мережковский Д.С. Балаган и трагедия // Акрополь: Избранные литературно-критические статьи. М.: кн. Палата, 1991 С. 253.
28
Мережковский Д.С. Балаган и трагедия. С. 259.
29
Там же. С. 260.
30
Там же. С. 260.
31
Там же. С. 255.
32
Аристотель. Поэтика // Аристотель Поэтика. Риторика. СПб., 2000. C. 37. (1452а).
33
“…Сборище друзей, оставленных судьбою”… С. 47
34
Там же. С. 628.
35
Белый А. Основы моего мировоззрения. С. 16.
36
Белый А. Философия культуры. С. 502.
37
Белый А. Основы моего мировоззрения. С. 32.
38
Зайцев П. Московские встречи (Из воспоминаний об Андрее Белом) // Андрей Белый. Проблемы творчества. Статьи. Воспоминания. Публикации. М., 1988. С. 566.
39
Там же. С. 574.
40
Там же. С. 574.
41
Лившиц Б. Полутораглазый стрелец: Воспоминания / Вступ. Ст. М. Гаспарова; М.: Худож. Лит., 1991. С. 33.
42
Там же. С. 34.
43
По воспоминаниям Лившица, архив Хлебникова, попавший в руки братьев Бурлюков представлял собою беспорядочный ворох бумаг: “столбцы каких-то слов вперемежку с датами исторических событий и математическими формулами, черновики писем, собственные имена, колонны цифр. То, что нам удалось извлечь из хлебниковского половодья, кружило голову, опрокидывало все привычное представления о природе слова”. (см. Лившиц Б. Полутораглазый стрелец С. 47). Рукописи Хлебникова показывали, как возможно осуществить выход за пределы предустановленной языком формы русского стиха. Эта форма и была – форма языка. Но Хлебникову удалось разрушить привычное представление об ее устойчивости. Она пошатнулась и опрокинулась. “Я вскоре почувствовал, пишет Лившиц, что отделяюсь от моей планеты и уже наблюдаю ее со стороны. Я увидел воочию оживший язык. Эта бисерная бязь на контокоррентной бумаге обращала в ничто все мои речевые навыки, отбрасывала меня в безглагольное пространство, обрекала на немоту. Я испытал ярость изгоя”. (см.: Там же. С. 48). Данная характеристика объясняет вынужденное молчание Хлебникова, т.к. ни один журнал не соглашался печатать этот “бред сумасшедшего” (см.: Там же. С. 107).



