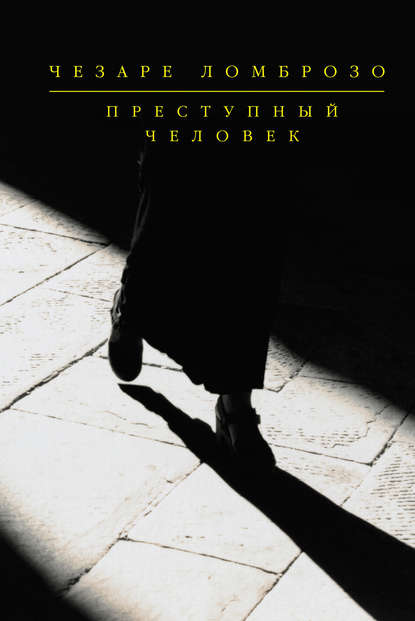
Полная версия:
Анархисты
Вот почему, не имея, таким образом, прочных основ, наше юношество жадно набрасывается на первое новшество, самое нелепое, даже зачастую совершенно не соответствующее времени, лишь только оно напоминает ему плохо понятую древность. Тот, кто думает об этом предмете иначе, пусть вспомнит классицизм революционеров 1789 года и прочитает «Инсургент» Валлеса; тогда он увидит, в какой степени именно это воспитание, как совершенно не соответствующее эпохе, способствовало образованию типа сбитого с толку бунтаря. Такое усиленное проведение классицизма сделало то, что теперь мы с большей охотой воздвигаем монументы, устраиваем всевозможные помпезные торжества, чем учреждаем промышленные предприятия, осушаем болота или строим школы.
И вот, как следствие такого воспитания, и получается то, что в основании деятельности наших революционеров, начиная с Кола ди Риенци и кончая Робеспьером, лежит насилие. «Что такое наше классическое образование, как не сплошное прославление самых разнообразных проявлений насилия?» – пишет Ферреро. Начинается оно с восхищения перед убийством Кодра и Аристогитона{6} и заканчивается цареубийством Брута. Да и вся история Средних веков, Новая история и история нашей эпохи Возрождения в устах наших преподавателей принимает вид какого-то прославления грубых актов насилия.
А вот стихи поэта, которого считают пророком морали новой Италии, стихи, встреченные всеобщими рукоплесканиями{7}:
Железа и вина я жажду…Железа, чтоб тиранов уничтожить.Вина, чтоб на их трупах тризну править.Деморализация уже столь глубоко проникла в общество, что стала общей всем партиям. Клерикалы аплодируют убийству Равальяка, консерваторы приветствуют расстрелы коммунаров 1871 года, республиканцы восторгаются бомбистом Орсини, но все они сходятся в одном: все аплодируют насилию, когда оно в их пользу. А герой нашего недавнего прошлого, кто он? Это не знаменитый исследователь и не великий артист, это Наполеон I.
К чему удивляться после этого, что в обществе, так сказать, насыщенном насилием, оно прорывается время от времени, как молния прорезывает тучи? Нельзя безнаказанно объявлять насилие священным даже при условии, что оно должно применяться в строго определенных случаях. Рано или поздно проповедь насилия перейдет из одной политической партии в другую. В противовес всем этим фактам человечеству следовало бы углубиться в свою совесть и перестать служить жестокому культу грубой силы; пора бы понять наконец, что принцип насилия всегда является безнравственным, пусть даже это насилие будет восстанием против насилия же. То, о чем я говорю, не болезненная сентиментальность: это принцип морали, возникшей из неустанного наблюдения над жизнью. Надо усиленно проповедовать новую религию нравственной силы, чтобы ускорить переворот, созревающий в глубине современной цивилизации; иначе европеец со всеми своими знаниями и цивилизацией докажет, что он немногим выше австралийца, отвечающего на вопрос о добре и зле следующим образом: «Добро, когда я отнимаю у другого жену; зло, когда другие отнимают мою».
Весьма важно то обстоятельство, что основы представительного правления не оправдали надежд. Некоторое время думали, что чем больше будет число людей, между которыми разделена власть, тем менее деспотично, тем более разумно и нравственно будет управление. Однако не подумали о том, что было известно уже в век Макиавелли: всякая форма правления носит всегда зародыши своего собственного разрушения; а наша форма правления как нельзя более оправдывает это мнение. У нас власть опирается на толпу, а толпа, пусть она будет даже в высшей степени однородна и состоит из избранных людей, все же при своих решениях не суммирует мысли отдельных людей, а отвергает негодные ей суждения, образуя, таким образом, то, что называется мнением большинства.
Формы наших учреждений неудовлетворительны даже в своих мельчайших деталях, а именно: люди, стоящие во главе правления, должны бы быть наиболее опытными техниками, а оказывается на поверку, что они менее всего техники, так как парламент требует в данный момент то демократа, то ломбардца, то венецианца. Кто может верить в правоведение или доверять компетенции морского министерства, если, быть может, оно взято из рыболовов; компетенции министерства народного просвещения, составленного из моряков? Парламентаризм не только не является гарантией честности, но, наоборот, он становится орудием политического шантажа: он играет роль ложного рубца, который скрывает нарыв и не дает выхода гною; больше того, он нередко вызывает преступление. Последние банковские процессы в Италии и Франции открыли нам, как много государственных мужей принимает участие в неблаговидных спекуляциях, стараясь набить свой карман или оказать давление на выборы, как это было во Франции во время борьбы с буланжизмом. Стать мошенником ради пользы государства многим уже не кажется преступлением; так точно в Средние века не считалось преступлением отравить политического врага, и этим пользовались не только Борджиа, но и венецианский Совет десяти{8}. Можно помочь газете из общественных средств, а отсюда легко перейти к помощи другу; еще одна ступень – и можно помочь себе. Этот переход не труден особенно для того, кто недостаток таланта старается возместить отсутствием честности. Парламентаризм расширяет сферу безответственности. Такого рода преступления существовали во все времена. В Риме причиной многих войн была расточительность и праздность какой-нибудь маленькой финансовой аристократии, в Англии и во Франции два или три века назад считалось вполне нормальным, если первый министр, а иногда и сам король получали пенсию от иностранных держав; министры и фавориты в короткое время составляли себе капиталы часто посреди всеобщей нищеты, дающей себя знать даже и при дворе.
То, что теперь попадает в банки и предприятия á lа Панама, при деспотическом правлении клали себе в карман королевские фавориты и любовницы. Теперь, если им и мало перепадает, зато господа депутаты получают достаточно (и перемена ролей, признаться, произошла не к лучшему). Депутаты считают себя непорочными и менее ответственными, чем короли, руководствуясь той мыслью, что они не государственные чиновники. В крайнем случае они рискуют потерять свой пост, после чего они могут безопасно наслаждаться жизнью на общественные деньги, которые они успели накопить во время отправления ими гражданского долга. А поэтому весьма естественно, что они и не сдерживают себя, тем более что их нравственное чувство находится в зачаточном состоянии. Тогда как несчастные короли, если бы они решились поступать так же, прежде всего потеряли бы уважение страны, а с ним в конце концов и трон, а быть может, и имущество и самую жизнь.
Заставьте через руки безответственных и почти недоступных контролю людей проходить огромные богатства и попробуйте-ка устроить так, чтоб они остались целы! Зло в наше время оттого-то так и велико, что хотя королей мало, зато много депутатов и сенаторов.
Теперь за злоупотребления этих лиц расплачивается все возрастающими и возрастающими лишениями и непосильным трудом обездоленный низший класс.
Верные мысли некоторых анархистов
Хотя и после всего сказанного нельзя оправдать, но можно по крайней мере понять, как в некоторых наивных или пылких умах родилась идея анархизма, идея протеста души против лжи и несправедливости, идея борьбы за честь и истину. Таким образом, можно будет понять и те фразы анархистов, которые выражают глубоко справедливые мысли. Вот, например, мысли Мерлино и Кропоткина:
«По какому праву существуют государства?
Зачем отдавать в руки нескольких лиц свою свободу и инициативу? Зачем допускать, чтоб они силой покорили себе всех? С согласия или против воли каждого отдельного лица они располагают им по своему желанию? Разве это какие-нибудь особенно одаренные люди, чтобы за ними была бы хоть тень права занимать места многих? Разве эти люди в состоянии блюсти интересы остальных лучше, чем это делали бы сами заинтересованные? Разве они так уж непогрешимы и беспорочны, чтобы имело хоть каплю здравого смысла вверить судьбу всех их мудрости и благости?
Да пусть даже и найдутся такие люди бесконечной доброты и мудрости, допустим гипотезу (которая в истории фактически никогда не осуществлялась), что власть вручена самым способным и самым лучшим людям, то что дала бы им эта власть, что прибавила бы она к благодетельному влиянию этих людей? Власть скорее парализовала бы это влияние: этим людям пришлось бы заниматься целой массой вещей, которых они не понимают, и прежде всего тратить лучшую часть своей энергии на то, чтобы удержать за собой эту власть, чтоб удовлетворить друзей, чтоб держать в узде недовольных и усмирять бунтовщиков.
Далее: каковы бы они ни были, добрые или злые, мудрые или невежественные, кто вручил им их высокую миссию? Или они овладели ею сами при помощи войны, победы или революции? Но тогда где же гарантия общества, что они будут проникнуты желанием общего блага?
Таким образом, все дело сводится к узурпации, и если порабощенные недовольны, то им остается только одно: прибегнуть к силе. Всякая теория, при помощи которой оправдывают себя правительства, покоится на предрассудке, будто бы необходима сила, стоящая над всеми, чтобы заставить одних уважать интересы других.
Но лучше обратимся к фактам.
В течение всей исторической жизни народов, да и в современную нам эпоху, всякое правительство есть грубое, насильственное, самовольное владычество немногих над массами, или же орудие, приспособленное для того, чтобы те, кто силой, хитростью или по наследству завладели всеми средствами к жизни, могли бы упрочить за собой власть и эти преимущества; прежде же всего землю, при помощи которой они и держат народ в рабстве и заставляют его работать на себя.
Людей угнетают двумя способами – или непосредственно, грубой силой, физическим насилием; или путем отнятия у них средств к существованию. Первый способ есть начало власти, или, лучше, политических привилегий; второй – родоначальник власти и привилегий экономических.
Прежде всего неверно то положение, что вместе с изменением социальных условий меняется природа и форма государства. Орган и его функции нераздельны. Отнимите от органа его функции, и он или умрет, или же функция должна восстановиться. Поместите войско в страну, где нет ни повода, ни опасности войны, и оно или вызовет войну, или распадется. Там, где нет необходимости расследовать преступления и излавливать преступников, полиция прекратит свое существование.
Во Франции, например, веками существует учреждение – louveterie[5], на обязанности которого лежит заботиться об истреблении волков и других вредных животных. Никто не удивится, что именно благодаря этим учреждениям волки и до сих пор водятся во Франции, и очень опасны в течение зимних месяцев. Публика не интересуется волками, потому что существует louveterie, обязанная думать о них. А учреждения устраивают охоты, но разумно и осмотрительно: они щадят молодое поколение и обходят период размножения, чтобы доходное животное не вымерло вовсе. Французские крестьяне, по существу дела, мало доверяют этим учреждениям и, скорее, считают их охранителями волков. И это понятно: что делали бы чиновники этого ведомства, если бы волков вдруг не стало?
Правительство, которое представляет собой известное число лиц, издающих законы и распоряжающихся силой всех, чтобы заставить каждого в отдельности уважать эти силы, есть привилегированный класс народа. Конечно, эти люди инстинктивно стараются расширить область своего влияния и избавиться от народного контроля.
Но предположим на минуту, что правительство могло бы служить всему обществу, не составляя само привилегированного класса, что оно может жить, не создавая около себя нового класса привилегированных и оставаясь представительным. Что произошло бы от этого?
Вечно повторяется старая история с колодником, который, продолжая жить, несмотря на кандалы, думает, что он и живет-то именно благодаря кандалам. Мы привыкли жить под гнетом государства, которое овладевает всеми силами, всеми умами, подчиняет себе волю всякого, заставляет служить себе все, что только может быть ему полезным; с другой стороны, уничтожает, парализует то, что оно считает для себя опасным или бесполезным. Мы же воображаем, что все, что происходит в обществе, происходит благодаря государству, что без него в обществе не было бы ни силы, ни ума, ни доброй воли. Так (мы это уже говорили) собственник, присвоивший себе землю, возделывает ее для своей личной пользы, оставляя рабочему только самое необходимое, чтоб тот мог и хотел продолжать работать, – порабощенный же работник думает, что он не может жить без господина, как будто бы господин создал землю и силы природы».
Обычаи всегда следуют за потребностями и желаниями большинства. И обычаи эти пользуются тем большим уважением, чем дальше они отстоят от санкции закона, потому что заинтересованные в их соблюдении лица сами заботятся о том, чтобы сохранить к ним уважение. Для каравана, путешествующего через африканскую пустыню, разумное, экономное пользование водой является вопросом жизни или смерти.
И в этих условиях вода становится священным предметом, и никто не осмелится обращаться с ней небрежно. Конспираторы нуждаются в сохранении тайн, и тайна хранится, иначе несмываемый позор падает на голову открывшего ее. Долги игроков не охраняются законом, зато среди игроков уплата этих долгов – дело чести.
Быть может, кто-нибудь воображает, что не будь жандармов, число убийств сейчас же возросло бы. Но большая часть итальянских общин почти никогда не видит жандармов. Миллионы людей ходят по горам и долам вдали от бдительного ока власти, и всякий, кто захотел бы, мог бы убить их совершенно безнаказанно, а между тем они подвергаются ничуть не большей опасности, чем те, которые живут в центрах. Статистика показывает, что число преступлений не зависит от репрессивных мер, тогда как с переменой экономических условий и состояния общественного мнения оно быстро меняется. Здесь уместно будет заметить, что новая итальянская школа наказаний, устами Э. Ферри, давно уже указывала на ничтожность влияния наказаний, но с предусмотрительностью, свойственной латинским народам, тотчас предложила заменить наказание социальными, законодательными предупредительными мерами: например, она предлагает развод как предупредительную меру против адюльтера, общественные бани – в предупреждение действия жары на убийц, и т. п.
«…Революция при существовании государства и частной собственности не создает никаких новых сил сверх тех, которые уже существуют; но она дает выход уже существующим силам и способностям».
Это заключение не лишено верности. Как мы видим из примера Флоренции и Афин, ослабление государственной власти повлечет за собой развитие на просторе тех индивидуальных сил, которые раньше были задавлены государством; однако, как только толпа возьмет перевес, индивидуальность вновь будет подавлена.
Вот сводка понятных теоретических идей анархистов:
1. Счастье – это право и объективная цель жизни человека.
2. По своей природе человек добр (психологи думают как раз обратное) и достоин и способен быть счастливым.
3. Абсолютная свобода, возможность для каждого делать беспрепятственно все, что он захочет, – вот условия счастья. (При этом совершенно упускают из виду, что желание одного может быть во вред другому: изнасилование, воровство и т. п.)
4. Все ограничения, внешние или социальные, внутренние или моральные, созданы искусственно и должны быть рассматриваемы как причины несчастий и печали людей. (А что же делать с прирожденными преступниками, с сумасшедшими человекоубийцами?)
5. Вся система законов, противоречащих человеческой природе, была создана одним классом людей, желающим руководить остальными и использовать их в свою пользу; весь этот класс в целом ответствен перед нами за настоящее искусственное и печальное положение вещей.
6. Быть может, для установления хорошего и счастливого порядка необходимо порвать со всем прошлым не только так, как этого хотят социалисты, т. е. уничтожить класс экспроприаторов, но окончательно разрушая оковы, как социальные, так и моральные. (Между тем внезапный разрыв со всем прошлым уже делает человека несчастным: ведь большая часть диких племен потому и погибла, что завоеватели слишком внезапно приводили их в соприкосновение с новой для них цивилизацией.)
Что же касается их практических целей, то они были сформулированы недавно следующим образом:
1. Создание пролетарского владычества над всеми средствами. (В слове всеми скрывается общая преступность.)
2. Создание общества, свободно основанного на коммунальном владении всеми благами. (Этот возврат к первобытным временам совершенно неосуществим.)
3. Простейшая организация производства.
4. Свободный обмен равноценных продуктов при помощи производственных товариществ, без всякого посредничества и без извлечения прибыли.
5. Организация воспитания на научных основах, без участия религии и одинакового для обоих полов. (Раз природа создала их разными, никакой закон не сделает их одинаковыми.)
6. Обсуждение всех общественных нужд при помощи свободных докладов общин и союзов, основанных на федеративных началах.
Критика идей анархизма. Их нелепость
Ни одна из этих идей не осуществима; впрочем, не все они невозможны. И среди мыслей анархистов попадается несколько базисов, не лишенных будущности; к таковым относится, например, идея большей индивидуальной свободы, критика совершенно бесполезной системы репрессий. Но, за исключением этих мыслей, все здание анархии рушится как в своей основе, так и в своем применении. Когда Кропоткин проповедует необходимость возврата к древнему коммунизму, я не стану ужасаться из одной скрупулезности, раз я увижу, что он нашел путь к практическому осуществлению своей мысли; но ведь он советует автору самому заняться издательством и печатанием своей книги, совершенно игнорируя, что разделение труда – есть истинная находка современности, которая никакими теориями не будет разбита; наконец, за неимением ничего лучшего он рекомендует предоставить народу разделить то, в чем он нуждается, позволить ему броситься на толпу, как стадо волков бросается на добычу; он как будто бы не подозревает того, что если добычи не хватит, то люди, подобно волкам, пожрут друг друга; он игнорирует то обстоятельство, что если коллективные предприятия до сих пор оказывались вредными, то потому, что в таковых пороки отдельных индивидов суммировались, а не уничтожались.
Если б наши коллективные учреждения не представляли из себя малочисленных групп, каковы, например, комиссии, институт присяжных, а состояли бы из всей массы народа, они были бы во сто раз бесплоднее, опаснее и преступнее, чем сейчас; и тогда-то уж они наверняка задушили бы всякое индивидуальное проявление, которому так мало покровительствует наше государство и которое совершенно справедливо выдвигает анархизм, – и разрушили бы его не постепенно, а сразу.
Старая истина, что чем многочисленнее собрание, тем менее мудры и справедливы его заключения, вошла уже в пословицу; индивидуальные пороки, сдерживаемые культурой в отдельных личностях, с большей силой дает себя знать в толпе.
Это верно и в тех случаях, когда затронуты денежные интересы, где человек оказывается наиболее чувствительным; общество же почти всегда делает ошибки в подобных случаях. Чего же ждать в тех случаях, когда личные интересы остаются в стороне, – в вопросах политических, административных, коммунальных? Вспомним старую пословицу: «Danari del commune, danari di nessuno»[6]. И как метко замечание Мольтке, что парламентское собрание, члены которого не несут полной ответственности, скорее согласится на войну, чем любой властительный князь или министр; депутат же дает свое согласие с легким сердцем потому, что он не несет ответственности.
Наконец, несмотря на некоторые заманчивые предложения анархизма, немедленное введение его сделало бы его нелепым и нежизнеспособным. Всякая реформа должна быть проводима чрезвычайно медленно, иначе она вызовет реакцию, которая разрушит всю предыдущую работу. Ненависть к всякому новшеству так глубоко коренится в человеке, что выступление насилием против установившегося уже строя, против старого, является преступлением: оно оскорбляет взгляд большинства. А если это необходимо нужно угнетенному меньшинству, то и тогда этот переворот есть акт антиобщественный и, стало быть, – преступление. Сверх того, часто это преступление бывает бесполезным, вызывая реакцию в сторону мизонеизма.
Мизонеизм властвует над всеми, начиная от дикаря, слабый разум которого утомляется всякий раз от новых впечатлений, и кончая ребенком, который выходит из себя и плачет, если не увидит ту же самую картинку или не услышит ту же сказку, рассказанную теми же самыми словами; и начиная женщиной, которая более упорно, чем мужчина, сохранила древние обычаи, и кончая современным академиком, который, несмотря на высоту своего развития, скептически относится ко всякому новому открытию, мизонеизм проявляется повсюду: в костюмах, в религии, в морали, в науке, в искусстве, в политике.
Этот же консерватизм обусловливает то, что всякий новатор встречает на своем пути столько противников.
И не только толпа, но и большинство образованной публики ненавидит новатора. Академии, эти последние прибежища отживших эпох и вкусов, не признают истинных ученых.
Даже гении не избегли мизонеизма, упорно отстаивая те мысли, за которые они боролись, и не допуская в них перемен, тех самых, которые они произвели над идеями старыми. В этом смысле Спенсер и говорил, что всякий данный прогресс является регрессом для будущего.
Итак, можно с уверенностью сказать, что большинство с фатальной необходимостью подвержено мизонеизму: оно с недоверием встречает все новое и отталкивает все, что задевает его слишком глубоко.
В этом мизонеизме, в боязни нового скрывается, быть может, великий бессознательный голос наследственного инстинкта, который, верный своей миссии сохранения вида, протестует против всякого, кто хочет навязать ему что-либо новое.
Итак, если органический и человеческий прогресс совершается только очень медленно и если человек и общество инстинктивно консервативны, то сам собой напрашивается вывод, что всякие попытки к прогрессу, вводимые путем насилия, вызывают бурю негодования и являются основанием политического преступления.
Если же, наоборот, реформа, введенная не слишком энергичными мерами, принимается большинством, это значит, что она должна была явиться как раз в тот момент, когда явилась; принятие ее большинством есть верный признак того, что она не идет вразрез с мизонеизмом, не насилует инерции большинства; она, следовательно, явление физиологическое, а не патологическое. Одним словом, этим уже доказывается, что в действительности революция не есть политическое преступление.
И в самом деле: первое условие того, чтобы какой-нибудь акт был антисоциальным, это чтобы он был делом меньшинства. Нормальным он становится тогда, когда его одобрит большинство.
Но политическое преступление становится общим преступлением тогда, когда из области теории, открытой для всякого обладающего здравым рассудком, оно переходит к практике. Как мы видели, анархисты всеми средствами стремятся достигнуть цели. Грабежами и убийствами они хотят привлечь на свою сторону адептов, которых им не удалось привлечь при помощи литературных и ораторских приемов; они убивают совершенно невинные жертвы, что, конечно, влечет за собой сильную реакцию со стороны большинства. Здесь преступление и нелепость сливаются в одно; если же и достигается что-нибудь, то как раз обратное тому, чего желали. Таким путем анархисты становятся лишь непопулярными в низших слоях и вызывают к себе отвращение в высших; как нетерпеливые лодочники, они вместо того, чтобы привести ладью к берегу, удаляются от него.
Я знаю, анархисты возразят мне следующее: «Но если зло существует, разве мы не обязаны бороться с ним, хотя бы страдающие от него и отказывались от нашей помощи?» Однако я должен возразить, что подобная попытка облегчить страждущих перестает быть обязательством и становится преступлением, потому что подобное средство излечения не принимается публикой и не идет ей на пользу, а, наоборот, только настраивает ее и против больного, и против врача. Масса похожа на тех женщин из народа, которых бьют их мужья, но которые всякую попытку вступиться за них встречают такой фразой: «А если нам нравится, чтоб нас били, чего же вы суетесь не в свое дело?» И верно, кто подобными средствами хочет заплатить за всех, мешается не в свое дело – все равно, будет ли он в истории носить имя Марселя, Кола ди Риенци или Помбала{9}. Тот самый народ, которому они хотели помочь, возмущался их жизнью и их делами и тем самым подтвердил суровый закон истории.



