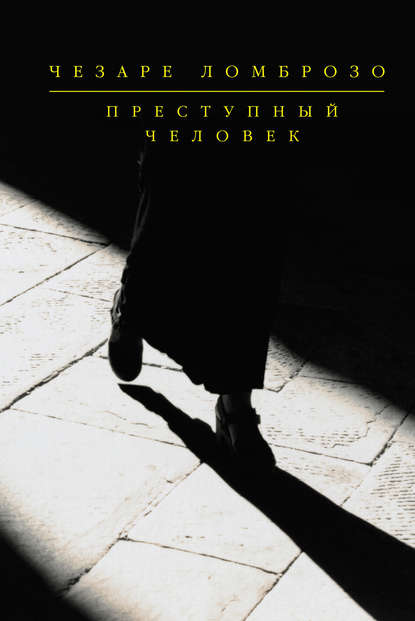
Полная версия:
Анархисты

Чезаре Ломброзо
Анархисты
Предисловие ко второму изданию
Я рад снова, уже более спокойно, вернуться к моему труду, чтобы пополнить его и, кстати, воспользоваться случаем ответить на те замечания, которые были сделаны по поводу этой книги почтенными известными критиками.
Такой, например, действительно авторитетный критик, как профессор Анджело Майорана, представил мне следующее возражение: «Выдаете скорее индивидуальную патологию, чем социальную. Ведь вы намерены были рассуждать о психиатрии социальной, а не индивидуальной. Так каким же образом случилось, что те люди, которые в иных условиях места и времени сделались бы грабителями, или пиратами, или разбойниками на больших дорогах, при настоящих условиях становятся анархистами в худшем смысле этого слова?»
Ответ на этот вопрос можно найти в главе 1 этой книги, где я старался охарактеризовать условия жизни современного общества, погрязшего во лжи и доходящего до безумия в фанатизме своей экономической борьбы.
Уже в эпоху варварства, да и во все исторические эпохи существовали люди психически больные, преступники с альтруистическими тенденциями, фанатики. Но сначала их фанатизм проявлялся на религиозной почве, а затем как участие в политических партиях и заговорах. Сначала мы видим их участниками крестовых походов, затем мятежниками, далее странствующими рыцарями, мучениками веры или неверия, как Бруно, Арнольдо ди Брешиа, или трибунами, как Марсель{1}, Кола ди Риенци, или цареубийцами, как Брут, Дамьен, Равальяк.
Но когда в настоящее время появляются такие фанатики альтруизма, в особенности среди народов латинской расы, то для их страсти не представляется иного выхода, кроме социальной или экономической борьбы, по крайней мере при нормальных условиях. В Германии или Англии возможен еще другой выход – в религиозном пиетизме, в кастовом духе или, во всяком случае, в святой и истинной благотворительности (см. главу 1).
На это указывал Ферреро. Он говорит так: «Религия – это самая удобная сфера для проявления фанатизма. И действительно, в Англии религия рекрутирует в свои ряды тысячи фанатиков, которые под самыми различными названиями, со всевозможными теориями лихорадочно стараются вырвать души из когтей порока. У них огромный простор для деятельности, для организации церквей, для дел благочестия, для проповедей и прочего. В странах же латинских, где сильна власть католической церкви, религия уже перестает быть этим громоотводом для фанатизма. Это не следствие отсутствия религиозности или скептицизма народа (который, кстати сказать, гораздо меньше овладевает человечеством, чем это обыкновенно принято думать, даже хотя бы и в стране Вольтера) – нет, это происходит благодаря твердой организации католической церкви. Католическая церковь – это огромное дисциплинарное учреждение, род войска, основанного на повиновении и послушании, где каждый член имеет свое место, свой образ жизни и поведения, свои мнения, регламентированные строжайшими законами. Активные фанатики, как Казерио, не могут в таких условиях чувствовать себя свободно, они всегда немного анархисты и склонны к восстаниям; среди же протестантских сект с их несколько анархистским характером, независимых, свободных, автономных как кланы варварских времен, они чувствуют себя прекрасно. В Англии Казерио нашел бы себе место в Армии Спасения генерала Бута{2}; там нашла бы выход его потребность деятельности и его фанатизм. Но в католической церкви он не нашел бы себе места, разве только в роли миссионера – это единственная область, где католическая церковь оставила еще некоторую независимость и свободу личной инициативы.
Другой выход для фанатизма, столь распространенный среди германских наций, и в особенности в Англии, но почти совершенно отсутствующий у наций латинских, – это филантропия. Лондон – это столица филантропов. Мужчины и женщины всех классов и общественных положений, богатые и бедные, образованные и невежественные, здоровые и ненормальные – упорно стремятся исцелить социальную болезнь и искоренить из общества одну из форм зла – бедность. Один заботится о детях, которых истязают их родители; другой о слепых стариках; третий об умалишенных, с которыми плохо обращаются в их лечебницах; четвертый – о заключенных и выпущенных из тюрьмы. И все они работают не покладая рук, издают журналы, произносят речи, организуют общества, и иногда им удается вызвать целую эпидемию сентиментализма и сильное движение в общественном мнении в сторону какой-либо гуманной реформы. Этот род деятельности может дать выход тому политическому фанатизму, который приводит при иных условиях к динамитным крушениям.
Но в странах латинских нельзя даже и повести агитацию в этом направлении; да она была бы бесполезной. Существует традиция, в силу которой благотворительность считается делом администрации и выполняется общественной властью или церковью, и эта традиция так сильна и глубока, что никому и в голову не приходит лично бороться с общественной нищетой.
Если родители в больших городах часто дурно обращаются с детьми, и хотя газеты неустанно будят общественное мнение, не надо, однако, забывать, что для предотвращения этого зла потребовалось бы издание закона, да и тот вряд ли стал бы применяться. Но ни у кого не является мысли основать частное общество, которых столько в Англии. Общества эти вовремя являются на помощь и вырывают из рук жестоких родителей их маленькие жертвы. Заметьте, что в Италии, как и во Франции, никогда не удается вызвать серьезный взрыв морального протеста против какого-нибудь из наиболее печальных общественных зол. Мы, итальянцы, почти не знаем общественных движений, которые в Англии беспрерывно следуют одно за другим. И вот, натуры деятельные, склонные к энтузиазму, должны искать другую сферу для приложения своей энергии.
Наконец, необходимо отметить, что как во Франции, так и в Италии некоторые специальные формы фанатизма, и, надо сказать, довольно сильные, несколько лет тому назад ослабли; упал прежде всего патриотический фанатизм, который увлекал столько умов и был, без сомнения, менее опасной формой, чем фанатизм анархический. В народных кругах в Италии патриотический дух, вызванный войной за независимость, угас благодаря главным образом ужасному экономическому кризису, переживаемому нами в последнее время. Во Франции патриотический подъем, вызванный несчастной войной 1870 года, вылившийся в такие разнообразные формы вплоть до буланжизма{3}, в данное время быстро падает вследствие отсутствия новых стимулов.
Из этого нельзя еще заключать, что энтузиасты легче впадают в фанатизм на социальной или экономической почве, потому что в этой сфере рамки более неопределенны, а относящиеся сюда теории могут обещать гораздо более того, что фактически является достижимым; или потому, наконец, что те миражи, которые анархистские партии развертывают перед глазами массы обездоленных, вселяли бы уверенность, что с исчезновением общественных несчастий прекратятся и все личные беды.
Если фанатизм религиозный, филантропический, патриотический является почти всегда безопасным, фанатизм политический или экономический всегда оставаться таковым не может. Политика всегда – борьба. Итак, если энергичный фанатик принимает участие и весь отдается этой борьбе, он доходит в ней до высшей степени экзальтации и находит в себе достаточно решимости, чтобы следовать своей любви или ненависти, даже предвидя на этом пути роковые последствия.
Но разве мы не видим также и религиозных фанатиков, которые становились убийцами в тех случаях, когда религия требовала страстной борьбы с враждебными сектами, как, например, это было во времена Реформации? То же самое роковым образом происходит и в политике, только с большей легкостью, так как политика всегда и всюду есть борьба идей, стремлений, интересов. Живой, страстный фанатик при малой культурности легко отождествляет политическую партию или учреждение с единичной личностью. Эта тенденция, такая сильная и столь свойственная человеческому духу, достигает еще больших размеров у эпилептиков или просто у субъектов, предрасположенных к насилию, о котором, благодаря нашему классическому образованию, создалось представление, как о поступке добродетельном и героическом».
С другой стороны, один журналист (по-видимому, сочувствующий моим взглядам) спрашивает меня: «Как могло случиться, что Казерио, невежественный крестьянин, мог додуматься и исполнить с таким хладнокровием, мужеством и настойчивостью преступление, от которого отшатнулся бы в ужасе самый закоренелый преступник? Все, что вы сказали, – очень хорошо, потому что, действительно, наследственная эпилепсия, пеллагра братьев и собственная экзальтированность могут обусловливать такую необычайную перемену. Но для профанов этого объяснения недостаточно, чтобы понять весь психологический процесс и основные причины».
Я могу ответить на это так. Профаны не знают, что психологией доказано следующее явление: страстный темперамент и эпилептическая и пеллагрическая наследственность, так сказать, предрасполагают ум к более крайним стремлениям, повышают, сказал бы я, уровень средней чувствительности, концентрируют, сосредоточивают чувства в одном определенном направлении и этим уничтожают огромное расстояние, отделяющее апатичного крестьянина от страстного сектанта, – не говоря уже о том, что чрезвычайно тяжелые условия жизни ломбардского крестьянина должны были заставить его горячо сочувствовать чужому горю, хотя бы проявление этого сочувствия было бы и неразумным. Я буквально упал духом, живя в одних с ними условиях в течение 30 лет, когда я изучал среди них пеллагру. На эти условия я не раз указывал, но, к сожалению, безрезультатно. Ужасное положение ломбардских крестьян вызвано самими помещиками, которые совершенно безнаказанно продают крестьянам испорченную кукурузу.
Конечно, те, которые не знают, в каких формах может проявляться наследственная эпилепсия и пеллагра, не поймут, какая связь существует между этими болезнями и политическим преступлением, и вместо того чтобы искать причину этого непонимания в собственном невежестве, найдут более удобным высмеять чуждую им (по невежеству) точку зрения.
Тем же, которые заявляют: «Преступление совершено, стало быть, преступник должен понести наказание», и при этом полагают, что экспертиза психиатров не должна смягчать вину преступников, мы можем ответить только следующее: мы исполняем наше дело, вы – ваше. Вы хотите вынести приговоры или даже вновь обратиться к пыткам? И поступайте так, но тогда уж не обращайтесь к нам и не требуйте, чтобы мы извращали факты ради вашего удобства.
Как в свое время осуждали и сжигали истеричек под видом ведьм или святых, так и теперь, разумеется, можно убить сумасшедшего, если проявление его безумия вызывает настолько сильное негодование, что для удовлетворения необходимо пролитие крови. Но это ни в коем случае не должно смущать психиатра, ставящего диагноз, точно так же как нельзя требовать от ботаника, чтобы он исключил из флоры аконит или цикуту, потому что они ядовиты и не так красивы, как роза и фиалка. Не может же, в самом деле, ботаник отнять у них их свойств как цветов потому, что они некрасивы и лишены аромата.
Что же касается тех лиц, которые не могут оправдать свое незнание тем, что они журналисты, а не ученые, и в то же время осмеливаются утверждать, что я в своей книге объявляю всех анархистов эпилептиками, я отвечу им следующее: их отзывы наводят меня на печальное размышление о том, как низко упала наука в Италии, если ученые, которые должны дать отзыв о популярной книге в несколько страниц, усматривают в ней как раз обратное тому, что там говорится! Чего же мы должны ждать от людей, так грубо ошибающихся в столь простом случае, если им в руки попадется вопрос более сложный?
Ч. Ломброзо.
Турин, 4 сентября 1894 г.
Глава 1. Позиция и причины анархии
В то время как государственный механизм все более и более дифференцируется, появление такой теории, как анархизм, теории, которая призывает к возвращению в первобытное состояние, ко временам до появления pater familias[1], – можно почесть только огромным шагом назад.
Однако как во всякой сказке есть доля правды, так и всякая теория, как бы нелепа она ни была, раз она имеет многочисленных последователей, должна содержать в себе элемент справедливости. Сама по себе мысль о возвращении в первобытное состояние не должна отталкивать нас от этой теории, потому что только само воплощенное тщеславие может утверждать, будто наши культурные стремления непременно всегда представляют шаг вперед. Наоборот, наш прогресс не может быть выражен постоянной восходящей кривой, а скорее зигзагообразной линией, которая часто бывает направлена как раз в противоположную сторону, и (вспомним «multa renascentur quae jam cecidert»[2]) поэтому поворот назад не всегда означает регресс. Возьмем хотя бы развод: это ведь до известной степени есть возвращение к доисторическим обычаям. Или гипнотические теории, которые выдвигают вновь вопрос о многих пророчествах и чудесах, отнесенных нами к детским вымыслам древнего мира. То же можно сказать и о теории монизма, о борьбе за существование, о праве наказания и даже, если хотите, о всеобщем избирательном праве и референдуме.
Впрочем, объяснение того, каким образом могла возникнуть эта странная партия, можно найти в расследовании современных условий нашей жизни. Если, например, мы спросим чиновника, получающего хороший оклад, или какого-нибудь крупного собственника с узким умом и еще более узкой духовной жизнью, в каком положении, по их мнению, находится современное общество, – они не задумываясь ответят: «Мы живем в лучшем из миров». Им живется хорошо, – кому же в самом деле может быть плохо? Но если тот же вопрос мы зададим людям с другим, более развитым моральным чувством, например Толстому, Рише, Серджи, Гюго, Золя, Нордау, Де Амичису, то они скажут, что наш fin de siècle[3] представляется им весьма плачевным.
Один из самых серьезных и способных к правлению людей латинской расы, Токвиль уже много лет назад заявил: «Наши правительства делают ошибку, опираясь исключительно наличные интересы и эгоистические страсти одного класса; когда правительство теряет свою популярность, тот самый класс, которому оно давало столько привилегий, начинает клеветать на него, вместо того чтобы спокойно наслаждаться полученными привилегиями.
Если вникнуть и разобраться, какое огромное многообразие в настоящее время существует не только среди наших законов, но и среди принципов законодательства, если рассмотреть, какие разнообразные формы уже приняло и продолжает принимать наше аграрное законодательство, то можно прийти к выводу, что мы вообще склонны отстаивать те учреждения, с которыми больше всего свыклись. Так и в области общественных организаций реформы должны быть гораздо многочисленнее, чем это вообще принято думать».
Прежде всего люди страдают от недостатков нашего экономического строя. Не потому чтобы условия жизни были тяжелее в настоящее время, чем они были во времена наших предков: голод, который уносил раньше тысячи жертв, теперь уносит только сотни, и одеваются наши рабочие лучше, чем любой придворный древнего мира. Но зато и потребности людей нашего времени возросли непропорционально доходу, а удовлетворять свои потребности, прибегая к обычной благотворительности, к монастырской милостыне, теперь стало для людей прямо невыносимо. Эта филантропия гораздо больше способна оскорбить природное человеческое достоинство, чем хоть сколько-нибудь удовлетворить человеческие нужды. Кооперации тоже не достигают своей цели уже потому, что сфера их деятельности крайне ограничена, а в деревнях они почти и вовсе не встречаются.
Пусть даже оба этих средства – кооперация и общественная благотворительность – будут действительны и достигнут своей цели, все равно ими нельзя было бы умиротворить страну, так как возникший на развалинах религиозного и патриотического фанатизма фанатизм социальный и экономический по существу так же слеп и необуздан, как всякий другой: он надвигается и рушит все на своем пути. На наших глазах падают идеалы религиозный и патриотический, исчезает национальный дух, рушатся основы семьи, падает корпоративный и кастовый дух.
Если мы примем во внимание, что человек не может жить без всякого идеала, то мы увидим, что люди поставили перед собой тот идеал, который более соответствовал их стремлениям выбиться из экономической зависимости, идеал более положительный – экономический. И этот идеал, вполне отвечая потребностям времени, не так легко может разрушиться под действием неумолимой логики современного научного анализа. И вся энергия, которая раньше была направлена в различные стороны, сосредоточилась теперь на достижении этого идеала. К этому надо прибавить, что однажды развенчанные идеалы (великодушие, терпимость, безропотное страдание) хотя уже и не могут бороться с новыми, все же обломки их препятствуют свободному движению вперед по намеченному пути. Над двумя социальными периодами – религиозным и феодальным – история действительно уже произнесла свой приговор, но время еще не изгладило их вредных последствий, от которых мы и по настоящее время страдаем. И теперь еще встречается во многих местах тщеславное властолюбие феодализма, его нетерпимость и религиозное ханжество. В настоящее же время к этому присоединилось еще владычество третьего сословия.
Власть церкви давно уже исчезла из наших правовых отношений; по крайней мере, так оно кажется на первый взгляд. Но попробуйте-ка затронуть какой-нибудь вопрос, так или иначе имеющий отношение к религии, хотя бы вопрос о разводе, или антисемитизме, или вопрос об упразднении церковных школ, и вы увидите, какую встретите оппозицию, само собой разумеется, под всякими благовидными предлогами: индивидуальная свобода, уважение к женщине, защита детей и т. д. и т. п.
Ведь и владычество военного сословия тоже, кажется, исчезло уж много веков тому назад; но стоит только затронуть эту струнку, как против вас поднимутся целые полчища, правда, не настоящей «публики», но людей из всевозможных официальных и полуофициальных сфер. А в бюджет государственных расходов входят миллионные статьи по содержанию сотен франтов, шалопаев и никому не нужных генералов.
Несчастным же учителям остаются гроши да бесполезные похвалы с обманчивыми посулами. Так маскируется государственное банкротство, а измученный крестьянин разоряется вконец от повышения цен на жизненные продукты.
В таком же положении находится и вопрос об идеалах патриотических и эстетических: правда, они забыты, но предложите французам отказаться от своей ненависти к итальянцам, англичанам – к половине мира; или попробуйте растолковать итальянцу среднего класса, до какой степени смешно его деланное поклонение классикам, которыми, по существу, он наслаждаться не может, которых он совершенно не понимает, а только приносит им в жертву лучшие годы жизни своих сыновей, – он не захочет вас и слушать или глубоко возмутится!
Четвертое сословие уже восстает против жажды наживы разного рода промышленных предпринимателей; оно протестует против превосходства трех остальных сословий и считает, что отношение между работой и прибылью трех высших классов и трудом и прибылью его – четвертого – слишком неравно.
Это чувствуется, об этом раздаются голоса и всего смелее там, где четвертое сословие находится в наименее стесненном положении и легче поэтому может оказать сопротивление. Несчастные индусы миллионами мрут от голода и не в силах реагировать на свое положение, так же как и наши ломбардцы, вымирающие от пеллагры. Наоборот, крестьяне Германии и Романьи, как и австралийские рабочие, находятся в сравнительно лучших экономических условиях, чем прочие, и поэтому у них больше сил, чтобы оказать сопротивление, и больше инициативы. Они протестуют и за тех, кому живется хуже, чем им. Анархисты оказываются далеко не самыми бедными, а многие даже богаты[4].
А потом, нельзя же отрицать, что почти все общественные и правительственные институты, существующие как в республике, так и в монархии, – не что иное, как величайшая условная ложь. Так это, по крайней мере, обстоит среди латинских рас. Все мы носим внутри себя эту ложь, хотя на словах и не признаем ее.
Ложь – вера в парламентаризм, бессилие которого открывается с каждым днем все больше и больше; вера в непогрешимость стоящих у кормила правления – ложь, ложь и вера в правосудие, которое наказывает едва ли 20 % истинных виновников преступления. Большей частью наказанию подвергаются только дураки, а кто поумней, тот остается на свободе, этими восхищаются и служат им те, которые слабее и совершенно невинны.
В наших руках лишь очень незначительная полоса берега, и в то время как наши поля остаются необработанными, мы, как дети, с жадностью набрасываемся на какие-то совершенно пустынные земли, которые стоят нам стольких жизней и вдобавок совершенно не окупаются той ничтожной выгодой, которую они могут принести.
А такие глубокие язвы нашего общественного организма, как пеллагра, целая масса предрассудков, алкоголизм, вошедшее уже в обычай беззаконие, схоластическое невежество, – мы стараемся залечить разными театральными представлениями, риторическими фразами, и как только мы вообразим, что кое-что уже сделано, так сейчас же все бросаем, особенно если нам самим это не доставляет особого удовольствия.
Если мы внимательно присмотримся к нашему столичному обществу, которое, подобно тому как в Японии, подчинено микадо и тайкуну{4}, то мы заметим, в нем те же недостатки, что и в остальной Италии, правда, в меньших размерах. Духовенство, хотя и слабое в теории, пользуется de facto огромным влиянием на два противоположных класса: плебеев и патрициев. Но духовенство, унаследовав власть того и другого класса, не унаследовало их престижа; при этом оно не умнее и не энергичнее их обоих. Это посредственность, царящая над всем, не сознающая своего ничтожества и судящая о фактах только с утилитарной точки зрения; посредственность, у которой нет впереди ни идеалов, ни даже заранее намеченной цели. Повсюду памятники и торжества заменяют учреждения; слепая любовь к своему углу и нетерпимость к чужому заменяют любовь к отечеству; в конце концов – грустная тишина, как покой океана, нарушаемая лишь изредка короткими бурями. Их поднимают обыкновенно люди скорее храбрые, чем честные, которые растрачивают свое непрочное влияние на маловерный народ.
Наше воспитание не только не уменьшает, а скорее увеличивает это зло; мы живем в эпоху, когда дни часто равносильны годам, а года – векам; нашим же юношам мы хотим создать искусственную атмосферу, в которой жили наши предки тысячу лет тому назад. И в настоящее время даже сильные умы не имеют достаточно времени, чтобы усвоить необходимые для всех знания (как, например, отечественная история, гигиена, живые языки, статистика), а мы все хотим, чтобы наше юношество убивало свое лучшее время на то, чтобы выучиться с грехом пополам болтать на мертвых языках о давно умерших предметах, – и все это чтобы выработать хороший вкус; а между тем мы нашли бы смешным, если бы в течение десяти или пятнадцати лет их обучали делать цветы или сольфеджио? Поток современной жизни, столь тревожной и богатой событиями, несется вперед, а мы как будто не замечаем этого движения. Максим д’Азелио пишет со своей обычной удивительной откровенностью: «С ужасом вспоминаю, что провел пять или шесть лет за изучением латыни в том возрасте, который наиболее способен к восприятию новых языков, и что вместо того, чтобы кое-как знать греческий и латынь, которые мне совершенно ни к чему, я мог бы знать хорошо необходимые для меня английский и немецкий; воспитание мое было все проникнуто иезуитской закваской. Задача, которую себе ставит иезуитский принцип и которую он всегда великолепно выполняет, состоит в следующем: продержать юношу до двадцати лет в своих руках за постоянным изучением, но при этом сообщать ему такие сведения, которые впоследствии не пригодились бы ему, и все это для того, чтобы образовать характер, ум и убеждения взрослого человека». Воображаю, как будут смеяться над нами наши внуки, когда узнают, что в наше время миллионы людей вполне серьезно полагали, что зазубренный по принуждению отрывок из древних классиков, забываемый скорее, чем это обыкновенно полагают, или какие-нибудь сухие грамматические правила вернее поведут юношу по пути умственного развития, чем изложение фактов и их неумолимая логика. И кто через несколько лет поверит, что когда-то латынь вполне серьезно считалась необходимым знанием для врача, инженера, моряка или офицера? А ведь стратегические, гигиенические и математические доктрины уже сильно изменились, и наиболее нужные технические сведения теперь гораздо легче почерпнуть из литературы новых языков! Между тем воспитываются поколения, ум которых долгое время питался формой, но не сущностью, и еще больше, чем формой (которая должна была бы выразиться в каком-нибудь художественном произведении), слепым преклонением перед нею, тем более сильным, тем более слепым и бесплодным, чем больше был промежуток времени, погубленный на эту бесполезную работу. Когда же мы убеждаемся, что достаточно уже забили эти бедные умы классической чепухой, то сверх нее мы набиваем еще археологическую и метафизическую ерунду. Слава богу, что наше арийское происхождение было доказано сравнительно поздно, иначе мы наверное имели бы две или три кафедры объяснения Mana-dharmasastra (законов Ману){5}; а не то признали бы необходимым для наших юношей восьми– или девятилетнее изучение санскритского языка. На этом стали бы особенно настаивать представители министерства народного просвещения, и больше всего те из них, которые не знают этого языка, – они наверняка стали бы утверждать, что эти вещи необыкновенно способствуют изощрению юношеского ума.



