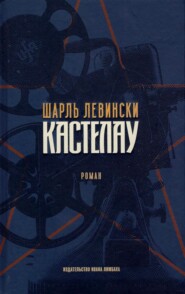скачать книгу бесплатно
[Пауза.]
Вот молодец, хороший мальчик. Научились все-таки для дамы спичку зажигать.
Я-то сама еще долго сообразить не могла, что вообще происходит. Правда, я и на студии была без году неделя всего, новенькая еще… Сперва думала: ну, не ладится у них, вдохновения нет. Творческие натуры, одно слово. А на самом-то деле у них просто от страха полные штаны… И в голове только одно: куда угодно, только прочь из Берлина. Что ж, их можно понять. Хочешь дать деру, а даже заикнуться не можешь…
Есть такой фильм… «Под мостами» [28], видели? Ну, как они на барже…? Браво, господин ученый. Садитесь, пять. Об этих съемках на студии много разговоров было… Им то и дело переснимать приходилось. По сути, всю работу заново. Стыки не совпадали. Там же всё на фоне Берлина, а в панораме города после каждой бомбежки новые дыры. Берлин, империя торговли! А тут – был торговый дом, и нет его! И другой рядом – был, и нету.
[Смеется. Кашляет.]
Чертов кашель.
Единственная, кто вообще вида не подавал, – это Мария Маар. Та свое дело знала, как круглая отличница. Она, кажется, и правда все еще в окончательную победу… И даже в «Вохеншау» [29] снялась в роли отважной немки, жертвы бомбардировок. Хотя на самом деле ничего подобного… Чистая показуха. После съемок ее, разумеется, на лимузине тут же домой отвезли. Вилла на берегу Грибницзее. И сразу, конечно, горячую ванну приняла. На развалинах-то пылища. Она сама нам рассказывала. С гордостью… У нее даже в мыслях не было, до чего это некрасиво… «Мой вклад в укрепление боевого духа» – так и сказала.
Да нет, не сплетни. Вы вон целыми днями в архивах торчите. Поищите. «Вохеншау» наверняка где-нибудь найдется.
Запись по фильму: Дойче Вохеншау, выпуск № 736
(Октябрь 1944, сюжет 3)
Панорамирование городской улицы со следами бомбардировки. Пафосная музыка.
Диктор (за кадром): В результате трусливых террористических налетов англо-американских воздушных бандитов подверглось разрушению и здание, в котором проживает сегодня известная киноактриса Мария Маар.
Крупным планом плакат: Фронт и тыл едины – борьба до победного конца!
Диктор: Свой собственный дом популярная актриса предоставила под санаторий для раненых солдат-фронтовиков.
Мария Маар и репортер на фоне плаката: «Решимость! Боевой дух! Уверенность в победе!»
Репортер: Госпожа Маар, что вы чувствуете, стоя перед этими руинами?
Мария Маар: Я испытываю ярость. Да, ярость, но и твердость духа! Решимость! Они могут сокрушить наши стены, но наши сердца – никогда!
Репортер: Вам ведь нанесен немалый ущерб. Вас это не огорчает?
Мария Маар: Я всего-навсего киноактриса, но я осознаю свой долг перед нашими героями, сражающимися на передовой. При мысли о них стыдно сетовать на какие-то лишения.
Диктор: Мысли и чувства Марии Маар разделяют миллионы мужчин и женщин во всех концах нашей родины.
Музыка усиливается [30].
Интервью с Тицианой Адам
(29 августа 1986 / Продолжение)
Все они хотели из Берлина смыться. Только хотеть – одно дело, а право иметь – совсем другое. УФА шла тогда по разряду важнейших военно-стратегических предприятий… Что, не знали? Да если кого с утра на рабочем месте не было… Теоретически могли и саботаж припаять… Чушь, конечно… Ну, все это, насчет военно-стратегического производства. В Бабельсберге как-никак фильмы делали, не самоходные орудия. От удачного крупного плана вражеские самолеты с неба не падают.
Вы вообще патриот? В смысле: как американец вы патриот? Ну, чтобы все как полагается: с пением гимна, руку на сердце и все такое?
Вам-то, янки, хорошо. Кто войну выиграл, тому потом не надо…
Да ладно, ладно, рассказываю дальше.
Три раза?.. Или четыре? Точно не помню. Словом, мы уже несколько раз прерывали съемки из-за воздушной тревоги… Все бросали как есть и ползли в бомбоубежище. Где уксусом воняло страшно.
Да, уксусом. В углу две здоровенные такие бутыли стояли, в соломенной оплетке. Потому что раньше этот подвал к столовой относился, вроде склада, ну, они и забыли… Или слишком тяжелые оказались эти бутыли, не знаю… Там до того странно все выглядело, в этом подвале. Да нет, не из-за воздушной тревоги, к ней-то за это время… Человек, он ко всему привыкает, это скотина к скотобою никак не привыкнет. Тут другое: понимаете, актеры всё еще в костюмах… Только представьте себе: сидят друг против дружки, как курицы на насесте, все вперемешку, тут вам и техники в синих комбинезонах, а среди них тут же и эта Маар в своем платье расфуфыренном или Шрамм в мундире с серебряными галунами. Чудно, одним словом.
Вот там, внизу, кто-то однажды и сказал… Может, даже и сам Сервациус, но я не поручусь, не уверена уже. Хотя нет, наверно, это все-таки Сервациус был… «Если сейчас на студию бомба упадет, – так он сказал, – мы на Средиземном море картину доснимем». Прозвучало вроде как шутка, но думал-то он, сдается мне, вполне всерьез. Разумеется, не про Средиземное море. Но по-моему, он уже тогда на Альпы нацелился.
Только вот бомба на студию всё не… Видно, не такой уж важный мы были военно-стратегический объект. Но, может, как раз в тот день там, в бомбоубежище, кого-то и осенило… Очень даже может быть… Что для пожара бомба не требуется.
На студии, да. Не то чтобы все дотла, нет, но снимать было уже невозможно. Это и было причиной, почему мы…
Откуда мне помнить дату? Я вам что, календарь? Сами уж как-нибудь разыщите.
В тот день Вернеру на переосвидетельствование надо было явиться. Это я точно помню. Он, конечно, хорохорился, пытался делать вид, что все это, мол, пустая формальность… Но на самом деле дрейфил сильно. Женщины такое чувствуют. До ужаса дрейфил.
Дневник Вернера Вагенкнехта
(3 ноября 1944)
Сегодня я повстречался с ангелом. В классной комнате, где пахло точно так же, как тогда, в гимназии в Фюрстенвальде. Мелом, пропотевшей одеждой и страхом. Но это было настоящее чудо. Был бы в Лурде, свечку бы поставил.
До этого я больше часа нагишом простоял в очереди в школьном коридоре, созерцая унылые ягодицы впередистоящего. (Унылые? Почему нет? Иногда неправильное словцо – самое точное.) Они построили нас в шеренгу по одному и приказали ждать, сняв с себя все, кроме носок и ботинок. Больше часа. Более чем достаточно времени, чтобы поразмыслить о точности эпитетов. Унылые ягодицы, да, бледные и усталые. Покорные. Ягодицы, давно оставившие надежду хоть когда-нибудь ощутить на себе туго сидящие брюки. Так и представляю медленный проход камеры вдоль нашего строя, без лиц, на уровне пояса, от задницы к заднице. Под «Марш добровольцев» на звуковой дорожке. И никакого текста, все ясно без слов.
Голый живот за голой задницей, ни малейшего смысла в этом нашем построении не было, равно как и в строжайшем приказе ни под каким предлогом из строя не выходить. Рявканье команд исключительно ради рявканья. Переговариваться, правда, нам не запретили, но когда не видишь собеседника в лицо, разговоры быстро умолкают. (Вот и еще одна формулировочка: в Германии созданы все условия, чтобы не смотреть друг другу в глаза.)
Несмотря на принудительный нудизм, мы не мерзли. В коридоре, наоборот, явно перетоплено. Откуда у них столько угля? Все мысли о такой вот ерунде. Через какой-нибудь час тебя, быть может, в солдатики забреют или на трудовую повинность упекут, а ты вон над чем голову ломаешь. К примеру, почему непременно нужно ждать стоя, когда вот же, вдоль всей стенки, лавки имеются? И никто не осмелится даже вопрос такой задать! Достаточно на физиономии этих горлопанов взглянуть, чтобы сразу понять: бесполезно спрашивать. Можно подумать, разреши нам на эти лавки присесть – небо обрушится!
Долдоны, которые там верховодят, все как один щеголяют почти утрированной военной выправкой. Норовят припрятать за ней то ли стариковские немощи, то ли собственное ловкачество, обеспечившее им теплое тыловое местечко. Особенно один усердствовал, старикан-фельдфебель, вот уж для кого привычка орать поистине стала второй натурой. (В качестве персонажа для романа он совершенно непригоден, это не человек, а ходячая карикатура на самого себя.) Когда он, пыжась от сознания собственной важности, – казалось, мундир вот-вот лопнет – надутым индюком прохаживался вдоль нашей голой шеренги, даже по запаху можно было учуять, насколько он упивается своей властью над нами. Над сотней мужчин среднего возраста – и ведь каждый день, надо полагать, ему поставляется новая партия, – над сотней служащих, ремесленников, научных работников, и все мы вынуждены безропотно сносить любые его самодурства. Пугливо опускать глаза, когда он облезлым фанфароном проходит мимо. И я тоже. Словно у всех нас совесть нечиста. Вместе с исподним у нас отобрали и собственное достоинство. Для чего, наверно, все и затевалось.
«Вам надлежит явиться» – написано в повестке. «Для переосвидетельствования» – написано в повестке. «В случае неявки» – написано в повестке.
А ведь Кляйнпетер твердо мне обещал: он по своим каналам «окончательно», «раз и навсегда» «утряс вопрос» о моем освобождении от военной службы. Значит, не сработало. Или он мной пожертвовал. Тот ночной звонок у Тити может означать, что меня решено взять в оборот. И возможно, Кляйнпетер, у которого повсюду «свои каналы», прослышав об этом, тут же надумал от меня избавиться. Ибо, спровадив на передовую меня, себя он из-под огня выведет. Не хочу про него такое думать, но теперь уже и Кляйнпетеру приходится прикидывать, где он проведет эти последние месяцы. А их, конечно, каждый мечтает все-таки провести в тылу.
Мужчина передо мной – его задницу я изучил во всех подробностях, зато о лице не имею ни малейшего представления – переминается с ноги на ногу. Наверно, в клозет хочет, а попроситься боязно. Или просто не привык так долго стоять.
Всё, всё надо запоминать. Потом когда-нибудь пригодится.
Если, конечно, еще жив буду.
Если когда-нибудь и в самом деле эту историю напишу, у него на заднице будет прыщ. Так убедительнее, и запоминается лучше.
Слева или справа?
Это надо же, чем голова занята! Надлежащим размещением прыща на заднице!
Однажды, когда я подряд две бесценные сигареты искурил только ради того, чтобы подобрать точный эпитет для авторской ремарки, Тити спросила:
– Неужели так важно, напишешь ты это так или чуточку иначе?
Да, Тити. Ничего важнее на свете нет.
Там, где коридор поворачивает, они, это просто курам на смех, даже барьерчик соорудили, с откидной планкой, и к барьеру, конечно же, аж целого обер-ефрейтора отрядили, специально, чтобы планку поднимать всякий раз, когда следующего вызывают. Еще одно донельзя ответственное боевое задание.
Голые мужчины по одному проходили в эти врата («оставь надежду всяк сюда входящий»), исчезали за поворотом, дабы уже не вернуться. Очевидно, выслушав приговор, они другим путем направлялись в полуподвал, в школьный спортзал, где им дозволено было снова принять цивильный человеческий облик.
Наконец наступила минута, когда передо мной оставалась только одна, до боли знакомая унылая задница, а потом настал и мой черед.
Я ожидал увидеть что-то вроде кабинета, но оказался в школьном классе. Впереди, на возвышении, за учительским столом, в полной форме сидел капитан медицинской службы. Мой ангел. Рядом с его помостом, можно сказать, у него в ногах, сидела молоденькая девица, вольнонаемная стажерка. За небольшим столиком с пишущей машинкой. Неужели для столь важного дела у них мужчины не нашлось? Или ее специально сюда посадили, чтобы сделать для голых военнообязанных мужчин всю эту процедуру еще унизительней? А что, с них станется.
Девица даже хорошенькая. Вернее, была бы хорошенькой, если бы не сплела волосы в косы, завязав их тяжелым тугим узлом. На достославный исконно германский манер, а-ля Шольц-Клинк [31].
– Фамилия?
– Вагенкнехт.
– Имя?
– Вернер.
В сценарии я бы сейчас написал: «Монтаж по контрасту. Переодетый офицером врач, оторвавшись от бумаг, внезапно вскидывает голову».
– Место работы?
– В настоящее время безработный.
Тук-тук-тук. Очевидно, машинистка отстукала три пропуска.
Продолжительная пауза. Затем:
– Будьте добры, госпожа Штайнакер, все-таки попытайтесь где-нибудь раздобыть для меня чашечку кофе. Как можно крепче. А то глаза уже слипаются.
Девица с узлом на голове скроила обиженную гримаску. Наверно, из-за того, что врач обратился к ней по имени, а не по должности. Чего ради тогда она добровольно сюда записывалась, спрашивается? Но все-таки вышла.
– Теперь по-быстрому, – сказал капитан. Сказал ангел. – Писатель Вагенкнехт – это вы?
– Так точно! – ответил я. Нет, пролаял: – Так точно!
– Оставьте эту солдафонскую дребедень, – сказал он. – Положение и так достаточно дурацкое, я в мундире, вы в чем мать родила. «Стальная душа» – это ведь вы написали?
– Вы читали книгу? – Кажется, я даже заикаться начал.
– Раньше, – буркнул он и сделал какую-то пометку в бумагах. На фоне классной доски ни дать ни взять учитель, что-то записавший в классный журнал. – Когда-то ваша книга стояла на полке у меня в библиотеке. Надеюсь, когда-нибудь снова будет там стоять. У вас жалобы на тянущие боли ниже пупка, – сообщил ангел. – Спазмы. С нерегулярными промежутками кал черного цвета, это кровь в стуле. Характерная симптоматика для язвы желудка. Есть риск внезапного обострения в условиях боевых действий. Негоден.
Чудо. Даже не знаю, что невероятней. Что у меня нашелся еще один читатель или что этот читатель, быть может, спас мне жизнь?
Я хотел было поблагодарить, но он и слова не дал мне сказать.
– У вас будет еще одно переосвидетельствование, – сказал он. – А за ним еще одно. Большинство моих коллег литературой не интересуется. Так что лучше бы вам не находиться в городе. Желаю удачи, господин Вагенкнехт. – И тут же, не переводя дыхания, но совсем другим голосом, заорал: – Да проваливайте же, черт возьми! Вы мне прием задерживаете! Присылают доходяг, понимаешь, а мне потом отвечать!
Это вольнонаемная девица вернулась.
Рукопись Сэмюэля Э. Саундерса
О пожаре 3 ноября 1944 года, который вывел из строя второй съемочный павильон на студии в Бабельсберге, остались различные, весьма противоречивые свидетельства.
С определенностью установлено, что горение возникло ночью и обнаружено было лишь в начале смены в 5.45 утра с приходом на работу технического персонала. Имело место внутреннее возгорание с сильным задымлением, без особых затруднений ликвидированное силами производственной противопожарной охраны. Возведенные на студии декорации фильма «Песнь свободы» в результате интенсивной проливки водой оказались настолько повреждены, что дальнейшее их использование не представлялось возможным. Кроме того, во многих местах обнаружено оплавление изоляции электропроводки. Выявлена необходимость проверки, а также ремонта и частичной замены всей системы энергообеспечения. По предварительным расчетам на восстановление эксплуатационной готовности павильона требовалось по меньшей мере два месяца.
В ежедневном журнале производственного отдела студии УФА, с неукоснительной пунктуальностью ведшемся до самого конца войны и даже какое-то время после, указаны две возможные причины возникновения пожара: короткое замыкание электропроводки вследствие обусловленных военной обстановкой перепадов напряжения или оставленная кем-то, невзирая на строжайшие противопожарные предписания, непотушенная сигарета.
В автобиографии Эрни Уолтон говорит о «вероломном покушении на мозговой центр немецкого кинопроизводства» [32], в результате которого он сам едва не лишился жизни. Впрочем, эти его соображения, как и многие иные сведения в его жизнеописании, вряд ли можно полагать достоверными.
Наиболее интересное, хотя и ничем не доказанное объяснение причин этого пожара дает актриса Тициана Адам, которая в тот день была занята на съемках во втором павильоне. Она твердо убеждена, что пожар возник не случайно, а вследствие поджога, устроенного кем-то из состава съемочной группы фильма «Песнь свободы». В качестве предполагаемых поджигателей она называет режиссера Райнхольда Сервациуса, директора картины Себастиана Кляйнпетера и актера Вальтера Арнольда, не подкрепляя, впрочем, свои предположения никакими доказательствами. Мотив преступления, на ее взгляд, у всех троих подозреваемых был один и тот же: вынужденное прекращение работы над фильмом в Берлине позволяло рассчитывать на перенос киносъемок в другое, более безопасное место, менее подверженное бомбардировкам союзников. Правдоподобность данной версии подкрепляется (но отнюдь не доказывается) тем фактом, что работа над фильмом «Песнь свободы» в дальнейшем действительно была перенесена из павильона и продолжена на натуре.
Интервью с Тицианой Адам
(29 августа 1986 / Продолжение 2)
Два интервью за день? Ишь ты, прямо как тогда, с «Песнью свободы»: моя роль становится все значительнее, зато в конце… Так как все-таки насчет гонорара?
Ну конечно… Как отплясывать – так это мы всегда пожалуйста, а как музыкантам на пиво подбросить – так это мы на мели… Я-то думала, вы, американцы, все богатеи. Начинаете с мытья тарелок – и прямиком в миллионеры. Хотя знаете что? А это неплохая идея.
Вы пока что не миллионер. Значит, начнем с мытья тарелок. А также стаканов. Мне помощник нужен в кабаке управляться. Что-то вроде студенческого приработка. Со своей стороны гарантирую каждый вечер горячий ужин. А я вам за это буду рассказывать…
Ну хорошо, два раза в неделю. Но это мое последнее слово. Пятница и суббота. Когда вся эта пьянь сюда заваливается. А когда ваша диссертация будет готова… Один экземпляр для моего архива. По рукам? По рукам!
Тогда за дело. Только сперва курнем по-быстрому.
Спасибо.
[Пауза.]
Кто тогда на студии поджог устроил, этого я с уверенностью… Подозрения-то кое-какие у меня имеются, да только… За них ломаного гроша никто не даст. Это наверняка был кто-то, кто прекрасно знал, что к чему… Вот он и постарался… Зря, что ли, только одна декорация погорела? В соседних павильонах, что справа, что слева… Все целехонько. Не верю я в такие случайности. Случайность – это просто когда докопаться не могут, кто на самом деле…
И до чего шустро они потом все в Баварию перенесли! Это ведь подготовить надо было. Одних бумаг сколько. Покуда разрешение на выезд из Берлина получишь… Притом что все мы на важном военно-стратегическом предприятии числились. Съемочная группа всем кагалом. Нет, тут, конечно, все заранее было спланировано, даже не рассказывайте мне. Можете дурочкой меня считать, но уж не настолько. Наш Кляйнпетер, он, конечно, мастак был любую обувку на ходу починять, но все равно… Ежели кто на висте из рукава валета вытаскивает, пусть не рассказывает, что это портной его там забыл. Говорю вам, это был поджог.
Да не знаю я. Правда, не знаю. Понятия не имею. Да, в конце концов, сегодня это и не… А тогда… А тогда, знай я, кто поджег… я бы его… Я бы ему спасибо сказала. Потому как иначе мне бы ни в жизнь из Берлина… Да еще куда? В Баварские Альпы, где они вообще не знали, что такое бомбежка… Где мне среди ночи уже не позвонят… Лишь бы прочь… Да я бы на колени перед ним встала. Тогда. Я ведь не знала, сколько всего еще…
Это притом что меня поначалу даже брать не собирались. «Только костяк съемочной группы, – так мне сказали. – А на твою роль на месте кого-нибудь подберем». – Иными словами: «Ты на фиг никому не нужна, а камеристку твою нам любая деревенская дура сыграет». Только со мной такие штуки не проходят. С кем угодно, но не с Тицианой Адам.
Зато Вернера брали. Хотя сценарий, казалось бы, уже написан. И, дескать, там, в Баварии, никакого значения не имеет, что он на самом деле… В смысле официально. «Он нужен, если понадобятся изменения в тексте, – так мне объяснили. – Применительно к обстановке». Можно подумать, актеры вообще тупицы и пару-тройку реплик сами сымпровизировать не в состоянии.
А я пока могу в его квартире остаться. Это Вернер мне предложил. От чистого сердца, конечно, только… На бумаге-то он вон как глубоко в людях разбирался, мой Вернер, зато в жизни совсем… Не от мира сего. Выражения такого не знаете? Ну, вроде как наивный. Хотя, с другой стороны… Но видели бы вы, как он чемодан упаковывал. Беспомощный, ну чисто мальчишка-несмышленыш, которого в первый раз в палаточный лагерь… Первым делом портативную пишущую машинку, это обязательно. Как будто там, в Баварии, о таком изобретении даже не слыхивали. Будто они там все еще гусиными перьями… Хотя по этой части он, в общем, прав оказался, но я тогда… Посмеивалась над ним. Полчемодана бумаги напихал. Двухцветную ленту для машинки про запас не забыл, зато трусы и вообще все нательное… И книг набрал видимо-невидимо. Целую гору. Словно в отпуск едет. И на полном серьезе ожидал, что я ему помогать буду, рубашки его… А потом поцелуйчики и прости-прощай. Дудки, не на такую напал.
Я в тот же день снова в Бабельсберг поехала. Вернее, вечером уже. На такси пришлось раскошелиться, хотя… С деньгами у меня тогда туговато было… Как и сейчас. Но все равно – такси. На этом их драндулете марки «ура, у нас бензин кончился!». Бочонок такой сзади с деревянными чурками. На древесном газу, короче. Всегда рыбой воняет почему-то… Копченой селедкой. У вас в Америке были такие?
Нашла, дура, кого спрашивать. Это ж когда было, откуда нашему мальчику такое знать?