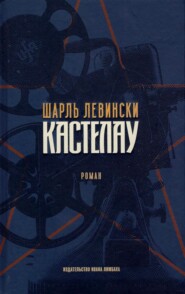скачать книгу бесплатно
Сколько угодно можете включать магнитофон – я все равно не передумаю. Просто не хочу. Не хочу и всё. Вот помру – тогда пожалуйста… А пока я жива…
Вы в Бога верите? Я нет.
В интересах науки! Не смешите… Вам до них и дела нет. Докторская степень – вот что вам нужно… Чтобы все по плечу похлопывали, восхищались… Говорили: «Ну ты и пройда, это ж надо, что раскопал!» Книгу хотите из этого сварганить, чтобы фамилия ваша на обложке… Не его, а ваша! А вы потом книжку на полку поставите и всякий раз, проходя мимо… В интересах науки!
Дайте же мне огня, черт возьми!
Тогда зажигалку купите! Спишете потом по графе производственных расходов. На задабривание Тицианы Адам. Чтобы она предоставила вам дневники Вернера Вагенкнехта.
[Пауза.]
Но вы их не получите. Может, когда-нибудь я и дам вам страничку-другую прочесть. Но целиком – никогда. Даже не надейтесь.
Ради сохранения памяти о нем! Чем больше слов, тем меньше причиндал! Да за все эти годы ни одна собака… Я однажды в книжный зашла… Вообще-то, я отродясь туда не ходила. Времени нет читать, да и глаза… Да ладно, скажу как есть. Я ни одной книги Вернера не прочла. Я и книги – это вообще… Не срослось, как говорится… А уж как он хотел, чтобы я хотя бы одну… Но это оказалась такая толстенная хрень… Я наплела что-то, отговорилась. Сказала, мол, я же в тебя влюблена, не в твою писанину. Хотя тогда вообще еще… По-настоящему-то я его полюбила, когда он умер уже. Нет, раньше, конечно. А вот поняла только потом.
[Долгая пауза.]
О чем, бишь, я? Ну да, в книжный заглянула и спросила какую-нибудь книгу Вернера Вагенкнехта. Только посмотреть… Они даже фамилию такую не знали. Даже фамилию не слыхали! Так что кончайте тут насчет сохранения памяти распинаться. Никакую память никто не хранит. Никто. Кроме меня, разве что.
После войны я в Берлин поехала, квартирку свою разобрать хотела. Только разбирать оказалось нечего. Об этом соотечественнички ваши позаботились… Точнехонько сброшенной бомбой. Хрясть, и как корова языком… Вот тебе твоя полировка, вот тебе твое розовое дерево.
А у него наоборот. Дом уцелел. Квартире повезло больше, чем хозяину. Ну вот, я дверь отпираю, ключ-то у меня был еще, а там… Какие-то совсем чужие люди. Даже мебель еще его. Беженцы, голь перекатная, женщина с тремя [неразборчиво]. Такое уж время было. Другие-то его бумаги, да и книги все они давно на растопку… Но дневник свой он… Если бы молодчики из гестапо нашли, ему был бы каюк сразу. Но он все равно писал, не мог иначе. Каждый день. У него это как болезнь было.
В картофельном подвале. Там такая ниша была, раньше туда банки с огурцами ставили. Ну а когда подвал под бомбоубежище отвели, нишу эту мы замуровали. Правда, от прямого попадания эта туфта в полкирпича мигом бы… [Смеется.] Не по-настоящему замуровали, а так, для блезира, все ведь второпях делалось. Четыре кирпича только вынуть, а за ними…
Вот я эти бумаги и забрала, и теперь они мои. То, что он в Кастелау написал, и три картонки из Берлина. Только это мне от Вернера и осталось. Могилу его они давно уже… Наверно. Там на кресте даже не настоящее его имя. Но дневник его…
За все эти годы никто не спросил. Забыли, зарыли, и дело с концом. Шито-крыто. А теперь вы заявляетесь и хотите…
Да хоть тысячу раз меня попросите, я вам то же самое отвечу. «Гёц фон Берлихинген», знают у вас в Америке такую вещицу? Нет? А вы поинтересуйтесь, полистайте [23].
Посмертно. Еще одно расфуфыренное словцо. Посмертно все они порешили забыть все, что было. Посмертно все оказалось иначе, чем на самом деле. Посмертно…
Вернера они похоронили, а этот Вальтер Арнольд… Марианна рассказала мне, как они вместе по деревне на джипе разъезжали, он и тот американский полковник. Который, вообще-то, из Вены родом был. Культур-офицер, так это у них тогда называлось. Наш Вальтер Арнольд, он потом вон какую карьеру сделал. А Вернера…
[Плачет.]
Видите, что вы наделали? Теперь мне снова краситься придется! Да оставьте меня в покое! Не нужен мне ваш носовой платок…
Хотя ладно уж, давайте.
Рукопись Сэмюэля Э. Саундерса
По возвращении из Германии мои контакты с Тицианой Адам почти прекратились. Поначалу мы еще несколько раз писали друг другу, в основном когда у меня возникали к ней кое-какие вопросы, а потом я переписку поддерживать перестал. С моей стороны это было нехорошо, я знаю. Ведь мы, можно считать, почти друзьями стали, и я знал, что дела ее идут неважно. Но после того, как профессор Стайнеберг прикрыл мою диссертацию, и после бесславных сражений с адвокатами мне обо всей этой истории хотелось как можно скорей забыть.
Вам стоит поискать себе другую тему, так мне сказал Стайнеберг. Вероятно, это было даже не столь уж трудно. Материала у меня накопилось достаточно. Но ни голова, ни душа у меня ни к чему такому уже не лежали. Реконструировать фильм, который никто смотреть не захочет, или разбирать по косточкам карьеру давно забытой кинозвезды – да разве мог я увлечься чем-то подобным? Когда мог написать историю, которая произвела бы настоящий фурор! Когда я такую историю уже написал!
Несмотря на все это, я, конечно, не должен был забывать Тити. Но я о ней забыл, и гордиться тут совершенно нечем.
В феврале 1994-го мне пришла бандероль из Германии. От какого-то агентства недвижимости в Висбадене. После кончины госпожи Тицианы Адам, сообщалось в сопроводительном письме, при разборке имущества была обнаружена картонная коробка с запиской: «После моей смерти переслать Сэму Саундерсу». И мой адрес.
От своих коллег-приятелей из фонда Мурнау я узнал, что Тити покончила с собой. Предполагали, что она сделала это, боясь мучительной смерти от рака легких, но мне думается, причина могла быть и другая. Она застрелилась у себя в комнате, и кажется, я догадываюсь, из какого оружия. От воспоминаний ведь тоже можно умереть.
В последние годы жилось ей, судя по всему, совсем не сладко, и тем не менее она вспомнила обо мне, завещала мне дневники Вернера Вагенкнехта. Прежде-то я только заметки мог делать по прочтении. Копировать Тити ничего не разрешала, хотя в фонде Мурнау это было бы проще простого. Но она не желала выпускать эти бумаги из стен своей квартиры ни на час, ни на минуту. Ничего дороже этих дневников у нее не было.
Дневник Вернера Вагенкнехта
(Октябрь 1944)
Сегодня встречался с Кляйнпетером, как всегда, в зале Анхальтского вокзала. Он заметно нервничал. Типичный жест наших дней – вовсе не гитлеровское приветствие, а опасливая оглядка через плечо.
Хотя для двоих людей, которым никак нельзя показываться вместе, такой огромный вокзал – просто идеальное место встречи. Здесь, на Анхальтском, никому ни до кого дела нет. Каждый куда-то бежит, торопится. К тому же вокзалы – вожделенные цели для бомбардировщиков. Так что если кто здесь не бежит, а стоит, значит, он занят ожиданием, а это порой весьма изматывающее занятие. Или он стоит, потому что боится пораниться об острые осколки разлуки. («Острые осколки разлуки»? Любой редактор это сразу же вычеркнет.) Вокзал – это фильм без главных героев, зато с полчищами статистов.
Можно целую книгу написать об Анхальтском вокзале военной поры. Что-то вроде «Людей в отеле» [24], только гораздо правдивей. Множество судеб, пересекающихся и сплетающихся в одном месте. Мать, тщетно ожидающая сына. Он телеграммой сообщил, что едет в отпуск на побывку, но по дороге на станцию угодил под шальной снаряд. Солдатик с ампутированной ногой ищет глазами свою девушку, не зная, захочет ли та теперь к нему, калеке, даже подойти. Вокзальный служащий, замышляющий акт саботажа, лишь бы не допустить отправления эшелона с депортированными. Великие времена – отличная почва для увлекательных историй. Правда, написать их суждено, лишь когда на смену великим временам придут обычные, невеликие.
Одна из историй могла бы, к примеру, повествовать о запрещенном авторе, который с коммерческим директором студии УФА должен встречаться тайком. Потому что на студии ждут его сценарий, а самого его – ни в коем случае.
Какой разительный контраст с былыми временами, когда Кляйнпетер принимал его официально, у себя в кабинете с двумя большими фасадными окнами, кабинеты получше в Бабельсберге только у членов правления были. Секретарша из приемной подавала им кофе. А теперь…
Не ныть. Описывать.
На первую нашу встречу на Анхальтском (кажется, целая вечность прошла, а на самом деле всего-то пара месяцев) он, желая выглядеть особенно «неброско», явился с чемоданом. Кажется, я тогда про это не записал. Пришел с пустым чемоданом, на студии за такое любому режиссеру тут же нагоняй бы устроили, по осанке-то сразу видно, пустой чемодан или тяжелый. Он его потом просто оставил. Понял, стало быть, что чемодан – это не шапка-невидимка.
Поначалу-то он вообще не нервничал. Ему и в голову не приходило, что нашу конспиративную встречу накрыть могут. Он ведь живет и действует, исходя из принципа, что все на свете можно «организовать», «провернуть». Война для него, как он сам однажды выразился, всего лишь досадная помеха нормально организованному кинопроизводству. Зато сегодня он совсем по-другому разговаривал. Растерянно, запуганно даже.
Не то чтобы он что-то в таком духе высказал, слишком он осторожен, за каждым словом своим следит, но интонации… А диктатура – она обостряет слух.
Сперва он сугубо по-деловому сообщил мне, что съемки «Песни свободы» уже начались, а я в ответ вежливо поблагодарил его за отрадное известие. Хотя для меня это вовсе не новость. От Тити я давно уже это знаю, и он, надо полагать, тоже догадывается, что мне о начале съемок известно. Но мы прилежно играли свои роли. Официально Тити, как и все остальные, больше никаких контактов со мной не поддерживает. Я ведь неприкасаемый. По идее должен бы, как прокаженный, расхаживать по вокзалу с колокольчиком и остерегать всех, покрикивая: «Нечистый! Нечистый! Нечистый!»
Сценарием они в целом довольны, но мне надо придумать себе другой псевдоним. Антон Пособил – слишком прозрачно, к тому же по-славянски. Не стоит зря гусей дразнить. Он пока что раздал сценарий без указания автора, хотя одно это уже выглядит необычно. Так что нужен псевдоним и строчек пять биографии для «Фильмбюне».
Что ж, мне не впервой сочинять себе новую жизнь.
Может, герой войны? А что? Автор – герой войны, чем плохой вариант? На героя всегда можно положиться. После тяжелого ранения, прямо с передовой. Потерял руку или там ногу. Лучше руку. Пустой рукав, заправленный в карман пиджака, люди такое сразу живо себе представляют. Вызываешь образ, который в головах сидит, ведь таких калек теперь полно, сплошь и рядом, на каждом шагу почти.
Солдат, который и раньше всегда хотел писать, но только теперь…
Нет. Кино – это совершенно иной, особый мир. Тут даже биография автора не должна напоминать о реальной жизни.
С другой стороны: ратное прошлое, вся жизнь – один сплошной подвиг, когда было не до писательства, это вполне убедительное объяснение, откуда вдруг совершенно безвестный дебютант…
«И уж, пожалуйста, что-нибудь нордическое», – Кляйнпетер так и сказал. И как можно правдоподобней. Ложь, но очень жизненная.
Вицорек? Домбровски? Из горняцкой семьи, в Эссене?
Нет. Кто хочет писать сценарии для УФА, тому не к лицу шахтерская родословная, вся эта рурская копоть и грязь. Хотя он-то как раз из этой грязи и вышел. Но, как и все, оглянуться не успел – а уже оберлинился.
Матцке? Сценарий: Вильфрид Матцке.
Слишком по-пролетарски… Нынешним гениям что-нибудь аристократическое подавай. Они еще бумагу в машинку вставлять не научились, зато псевдоним поблагородней и позвонче вот он, уже готов.
По молодости, еще до первого сборника стихов, я ночи напролет целыми столбцами будущие фамилии свои записывал. С гимназической скамьи свято верил, что без импозантного имени будущему поэту делать нечего. Эйхендорф. Лилиенкрон. Дросте-Хюльсхоф. Что угодно, только не Вагенкнехт.
Эренфельз.
Фотокопия
(Из архива пресс-департамента студии УФА)
Франк Эренфельз. Краткая биография.
Свои первые успехи Франк Эренфельз снискал на ниве местной прессы в «Висмарер Анцайгер». В двадцать один год он издал свою первую пьесу, благодаря чему получил возможность освоить профессию завлита. Франк Эренфельз – лейтенант запаса. «Песнь свободы» – его первый киносценарий.
Дневник Вернера Вагенкнехта
(Октябрь 1944 / Продолжение)
Но вызвал меня Кляйнпетер, оказывается, вовсе не для этого. Истинную цель разговора он приберег под конец. Это стало заметно, когда он вдруг озираться начал. Исподтишка, как ему мнилось. Директор картины он, конечно, бесподобный. Но актер никудышный.
До этого он вполне нормально разговаривал, а тут сразу на шепот перешел. Срочно нужен сюжет, который разыгрывается где-нибудь в Альпах. Хоть комедия, хоть любовная бодяга, это совершенно безразлично, главное, чтобы в Альпах, Альпы – вот что важно. И все это срочно, лучше всего вчера. У меня случайно ничего такого в письменном столе не завалялось? Нет? Тогда ноги в руки и за дело – и мозгами шевелить, мозгами!
И все время эта пугливая оглядка через плечо. М-да, подгнило что-то в датском королевстве.
Альпы как единственное условие? Что бы это могло значить? Неужто с Тренкера [25] сняли опалу? Несмотря на то что на тех съемках в Южном Тироле он слишком долго колебался, выбирая, кем лучше быть – истинным немцем, правоверным подданным рейха, или все-таки итальянцем. А теперь снова в фаворе? Что ж, все возможно. На студию-то не ходишь, вот и не в курсе последних слухов и сплетен.
Но я лично на другое готов поставить. Альпы – это ведь так упоительно далеко от Берлина. В Альпах с неба не сыплются бомбы. Кто в Альпах на киносъемках – тот в безопасности. Неужто Кляйнпетер смываться надумал? И он наверняка не один такой…
На студии, рассказывает Тити, о работе всерьез уже никто не думает. Кроме зануды Маар, которая из-за этого то и дело на всех жалуется. Вальтер Арнольд, который так кичится своей «школой актера государственных театров», впервые явился на съемки, не выучив текст. Августин Шрамм, записной клоун, вообще шутить перестал, а Сервациус хворает. Кашляет беспрерывно, иной раз даже после команды «Мотор!», вот только кашель, уверяет Тити, какой-то неестественный, натужный. В детстве, когда в школу очень не хотелось, она точно так же кашляла. Тогда она даже рвоту у себя вызвать могла. Видно, девчонкой она тот еще фрукт была.
Режиссер, мечтающий прогулять киносъемки… А что, тоже заманчивый сюжет [26].
Вернер Вагенкнехт. Сервациус на приеме у доброго доктора [27]
С доктором Клинком сложностей быть не должно, думал Сервациус. С ним никогда сложностей не бывает. Он не из тех врачей, к которым идут, когда тебе действительно нездоровится, зато если надо что-то решить в практической плоскости, лучшего лекаря не сыскать. Он и рецепт тебе выпишет, какой хочешь, и справку, какую надо. «Я стольким больным здоровье выправляю, – скаламбурил он однажды, – что не грех иной раз и здоровяку больничный выправить». Чтобы замять скандал, ему случалось переквалифицировать последствия падения с декораций в дымину пьяной кинозвезды в удручающие симптомы диковинной болезни с мудреным латинским названием, да и с беременностью «по залету» к нему всегда можно было обратиться. Анонимность гарантирована.
И недорого. Деньги он зарабатывал в своей частной практике, дела в которой, судя по всему, шли очень даже неплохо. А в мире кино его нечто совсем иное привлекало. Знаменитости – вот где была его слабость. Фото с Сарой Леандер или с Хайнцем Рюманом, который на приеме по случаю премьеры дружески обнимет его за плечи, – вот чем на самом деле он жил. Как-то раз, желая сделать ему приятное, они подослали к нему смазливенькую девицу из подтанцовки с заданием ублажить доктора по полной программе, так его это нисколько не заинтересовало. Женат всерьез и надолго, как выяснилось. Хотя жену его никто в глаза не видал.
Встречу назначили у него в клинике. По окончании приема, разумеется. Даром, что ли, они наградили его почетным титулом доверенного врача, ради этого господин доктор может иной раз потрудиться и сверхурочно.
На лестнице пахло угольной гарью и бедностью, здесь, у самой Курфюрстендамм, в фешенебельном районе, такого не ждешь. Но сейчас не угадаешь где что. Запах усилился, едва Сервациус распахнул дверь, на которой красовалась табличка с фамилией доктора. Здесь, среди голых стен с одиноким письменным столом регистраторши посредине, вообще не продохнуть. Он заглянул в комнату ожидания, потом в кабинет – никого. В конце концов – надо было сразу своего носа послушаться – он разыскал доктора в крохотной комнатенке лаборатории. Доктор колдовал над газовой горелкой, что-то помешивая в маленькой кастрюльке. Вскинув голову, глянул на вошедшего.
– Весь день не ел, – коротко пояснил он. – Проходите, я сейчас.
Одна из стен кабинета целиком была посвящена заветной докторской страсти. Настоящий иконостас, три ряда актерских фото – все с автографами, все в одинаковых красивых рамочках, под стеклом. Правда, четыре фотографии сняты и стоят на полу, прислоненные к стенке. Там, где они висели, теперь красуется плакат с подробной инструкцией об извлечении пострадавших из-под развалин. Не иначе, предписание вышло: наличие плаката строго обязательно.
Ни малейшего намерения оказаться под развалинами у Сервациуса не было. И намерения оставаться в Берлине тоже.
В кабинете какой-то беспорядок. Налет запущенности. Как будто уборщица давно не приходила. На письменном столе толстенный фолиант, «Атлас описательной анатомии». На переплете подпалины, словно книгу из огня вытаскивали. Очень странно и совсем на доктора не похоже, у него в клинике всегда царили образцовый порядок, чистота и опрятность. Не клиника, а просто наглядное пособие к понятию «гигиена».
Даже странно. А что, если доктор сам с утречка хлебнул своей волшебной микстурки, на которой, по слухам, двое суток продержаться можно? Кое-кто на студии клянется, мол, так оно и есть. Коктейль пилотов, так это у них называется. Что ж, пусть себе. Чужие трудности Сервациуса мало волнуют, у него своих забот хватает. Пусть господин доктор за завтраком амфетамин хоть ложками себе в кофе подливает, лишь бы он был в состоянии нужную справку ему выписать, с печатью и всеми прибамбасами.
Когда Клинк наконец вошел, вместе с ним в кабинет потянулся и явственный запах гари. В руке он бережно нес кастрюльку, тут же определив ее на атлас, на котором она с шипением оставила очередную паленую отметину. Доктор произвел рукой неопределенный размашистый жест, означавший, судя по всему, примерно вот что: «Минуточку, сейчас только одно важное дело улажу», – и жадно принялся есть. Скривился – видно, слишком горячо, – но продолжил истово, словно голодающий, черпать ложкой из кастрюльки.
Нет, на коктейль пилотов не похоже. От него, так Сервациус слышал, вроде бы жажда одолевает, но никак не голод. Некоторые актрисы для того только это зелье принимают, чтобы не толстеть. Когда эти дурехи очередной «курс» проходят, с ними почти невозможно работать, до того они взвинченные.
А доктор Клинк уже шкрябал ложкой по дну кастрюльки, намереваясь извлечь оттуда нечто особенно вкусное, но тут, похоже, вспомнил, что он не один, с сожалением отодвинул от себя атлас, а вместе с ним и кастрюльку с остатками овощного супчика.
– Готовить умеете? – неожиданно спросил он.
– Дальше жареной картошки так никогда и не продвинулся.
– Надо учиться, – вздохнул он. – Всему придется учиться. – И только теперь, будто раскрыв наконец сценарий на нужной странице, внезапно спросил: – Ну-с, на что жалуетесь?
Наконец-то.
– Легкие, – ответил Сервациус. – Это, наверно, будет самое правильное. – Он подумал, не стоит ли опять покашлять, но доктора Клинка, пожалуй, на такой мякине не проведешь.
– Легкие? – Доктор сдвинул на лоб очки и принялся внимательно изучать ложку, которой только что ел суп, словно это термометр с температурой пациента. – Легкие – весьма интересный орган, таящий множество возможностей. Тут нужно тщательное обследование. Когда вы могли бы освободиться?
– Мне не нужно обследование, господин доктор. Только справка. Вы меня понимаете?
Клинк уставился на него так, будто с ним заговорили по-китайски. Будто он вообще ничего не понимает. Раньше-то он посообразительней был.
– Мой новый фильм… видите ли… Сценарий не вполне меня устраивает… Не в моей творческой манере… Вот я и подумал, проще всего было бы…
– На легкие жалуетесь? – спросил Клинк. Облизал ложку и аккуратно поставил ее в бакелитовый стакан к карандашам. – Это может быть опасно. Пульмональная гипертония. Или хронический обструктивный бронхит.
– Вы доктор, вам виднее.
– Для начала давайте разденемся.
Клинк встал и пошел к умывальнику. Только тут Сервациус заметил гору немытых тарелок в раковине.
«Ладно, – подумалось ему. – Театр так театр…»
Он повесил пиджак на спинку стула, расстегнул воротник на шее и принялся за следующие пуговицы.
– Как насчет эмфиземы? – спросил Клинк, тщательно моя руки под струей воды. – Повреждение альвеол? Это вам подходит?
– Да что угодно, доктор. Лишь бы…
– Лишь бы по состоянию здоровья вам требовалось санаторное лечение, верно я понимаю? Несколько недель на природе…
Ну наконец-то дошло.
– Вы что-то определенное имели в виду, в смысле местности?
– Говорят, альпийский воздух…