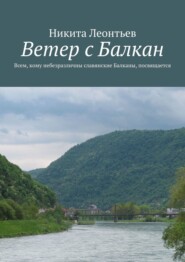
Полная версия:
Ветер с Балкан
Нови-Сад… Город, абсолютно нетипичный для Сербии, город со сложной и удивительной судьбой. На протяжении веков, начиная с момента основания в 1694 году, нынешняя столица Воеводины была культурным центром Сербии. Но не стоит думать, будто история этого места начинается только с XVII века. Ещё в средние века местечко Варадин было центром района, входившего в состав Сремского санджака9. Позже это место, как и расположенная на берегу Дуная крепость, получит название Петроварадин.
Петроварадинская крепость становилась свидетельницей яростных сражений. За этот край в конце XVII века боролись две тогдашние сверхдержавы – Османская империя и Австро-Венгрия. В битве у Сланкамена в 1691 году, а также шестью годами позже в сражении под Сентой турки потерпели жестокие поражения. Пытаясь вернуть влияние в Сремском регионе, турки предприняли очередной поход. В августе 1716 года османские войска в битве под Петроварадином были наголову разбиты австрийцами. Османская империя вынуждена была уйти из региона, оставив его Австро-Венгрии.
В XVIII и XIX веках Нови-Сад становится не только культурным, но и политическим центром для сербского народа, не имевшего тогда своего государства. Огромное культурно-историческое наследие города – основная причина того, что Нови-Сад получил второе, «неофициальное» название – «Сербские Афины». В середине XIX века город был центром автономного края Сербская Воеводина, входившего в состав империи Габсбургов.
После окончания Первой мировой войны город вышел из-под влияния распавшейся и капитулировавшей Австро-Венгрии, и объявил о присоединении к Сербии. В 1941 году фашисты оккупировали Югославию и начали проводить её раздел. Нови-Сад был отдан Венгрии, а Срем и Петроварадин – Независимому государству Хорватия10. На протяжении войны в Нови-Саде было убито более 5 тысяч жителей. С 1945 года и по сей день Нови-Сад – столица автономного края Воеводина в составе Сербии…
По количеству культурных объектов, равно как и по обилию известных деятелей культуры, живших и работавших в Нови-Саде, этот город можно сравнить с нашим Санкт-Петербургом. Именно здесь в 1861 году был основан Сербский народный театр – старейший южнославянский профессиональный театр. Тремя годами позже сюда из венгерского города Пешт перевезли всё культурное наследие Матицы сербской. Здесь в своё время жил и трудился цвет сербской интеллигенции – Джура Якшич, Йован Йованович-Змай, Светозар Милетич, Вук Стефанович Караджич и многие другие.
Вообще, Белград и Нови-Сад можно назвать сербским аналогом наших двух столиц – Москвы и Петербурга. И там, и там есть «главная» и «северная» столицы; и там, и там «северная столица» более европеизирована; и там, и там существуют локальные диалекты; и там, и там жители двух столиц испытывают весьма сложные чувства друг к другу (чего только стоит увиденное как-то мной в Нови-Саде огромное граффити на стене дома, несущее ясное и однозначное послание – «Я ненавижу Белград»)…
…И вот мы со Срджаном едем в автобусе. Спустя какое-то время я обращаю внимание на то, что местность за окном стала меняться. Исчезли холмы, леса и перелески – вокруг простиралась гладкая, как стол, равнина. Местами её захлёстывали бескрайние поля цветущих подсолнухов, тянущих свои золотые головы к жаркому летнему солнцу.
– Вот, – замечает Срджан, – это типичная Воеводина.
Воеводина – автономный край в составе Сербии, на севере страны, её столицей как раз и является Нови-Сад. Этот регион примечателен многим. Начать с того, что он имеет границы сразу с четырьмя соседними странами: Венгрией, Румынией, Хорватией и Боснией и Герцеговиной. На территории автономии соседствуют несколько исторических регионов – Банат, Срем и Бачка. Именно в регионе Срем находится знаменитая Фрушка-гора, богатая старинными монастырями.
Этот край по праву называют «житницей Сербии». Бескрайние поля, каждое лето покрытые золотом колосьев, обеспечивают хлебом всю страну. Густая сеть каналов, связывающих местные водные артерии – Дунай, Саву и Тису – делает и без того щедрую землю ещё более плодородной.
Воеводина – мультиэтнический, то есть многонациональный регион. Это можно понять, просто посмотрев на карту. Небольшой кусочек земли в центре Европы стал родным не только для сербов, но и для венгров, словаков, хорватов… Живут тут и представители так называемых малых народностей – например, буневцы и русины.
…А мы тем временем едем, болтая обо всём на свете. Спрашиваю друга о Нови-Саде, что он знает о городе?
– Знаешь, – говорит он, – есть там одно такое место, которое я бы хотел перенести в Белград. Это Дунайский парк. Надеюсь, мы его увидим.
На автобусной станции нас встречает Миланка. Она прямо-таки излучает энергию, а ещё – потрясающий позитив.
– Давайте сначала в парк, потом до собора по центру, а потом на Петроварадин.
Возражений нет. Срджан обращает моё внимание на то, как новисадцы (и Миланка, в частности) произносят некоторые слова. В отличие от центральной Сербии, в ряде слов ударение делается не на первый слог. Например, житель Белграда Срджан говорит – ДУнавски парк (с ударением на первый слог), а жительница Нови-Сада Миланка – ДунАвски парк (ударение на второй слог). Кроме того, сам темп произношения у новисадцев более медленный и размеренный.
Дунайский парк действительно достоин того, чтобы его если не перенесли в Белград, то хотя бы сделали там его точную копию. Идеальное место для летнего отдыха: даже в самую сильную жару тут приятно благодаря прудам с фонтанами, уютным беседкам и зелёным насаждениям.

Дунайский парк в Нови-Саде
После Дунайского парка мы отправились гулять по центру города. Архитектура, с одной стороны, напоминает типичную центральноевропейскую – немного «пряничный» вид, красная черепица крыш и тому подобное. С другой – чем-то неуловимо центр Нови-Сада напомнил мне наш Нижний Новгород, где мне однажды довелось побывать.
– А знаешь, – говорю Миланке, – чем-то это мне напоминает наш город – Нижний Новгород. Там почему-то очень похоже.
– Как ты сказал? Нижний Новгород? Ха-ха! А ты знаешь, что попал в точку? Ведь Нижний Новгород – город-побратим Нови-Сада!
И так, оказывается, бывает в жизни…

Нови-Сад
Выйдя на одну из городских площадей, мы увидели памятник Светозару Милетичу – одному из самых влиятельных и ярких деятелей сербской политики и культуры XIX века. Уроженец региона Бачка, он ещё со школьной скамьи выделялся своим талантом и трудолюбием, а также интересом к политической жизни страны. В 1848 году, находясь в венгерском Пеште, он стал свидетелем начала гражданских революций в Европе. Вернувшись в Сербию, Милетич начал агитировать жителей не уходить на фронт в Италию. Австро-венгерские власти много раз пытались его арестовать, но местные жители предоставляли ему надёжные убежища.
В том же 1848 году Милетич отправился в Белград, где подал сербскому правительству прошение об объявлении войны Турции. Он предполагал, что в случае согласия это развяжет всебалканское восстание против Османской империи. Но это была несбыточная надежда: правительство было не готово пойти на столь радикальный шаг.
Успешно получив образование в Вене в 1854 году, он начал трудовую карьеру судебным приставом в городке Лугош. Спустя два года он забросил это дело, открыв адвокатскую контору в Нови-Саде. Не вмешиваясь в политическую жизнь активными действиями, Милетич рассуждает о ней в своих многочисленных статьях и публикациях в «Сербском дневнике». Одним из потрясших его событий стало прекращение существования Сербской Воеводины и передача её земель Венгрии. На эту тему он, впрочем, писал следующее: «Воеводство умерло, но в том виде, в каком оно находилось, оно и не было никому нужно».
Милетич остро понимал, что смерть Воеводины – всего лишь незначительная деталь. Куда хуже для сербов было то, что одновременно с этим событием умерла и их вера в Австро-Венгрию: если раньше у его народа была надежда на то, что австрийцы дадут сербам гражданские права и новые возможности, то упразднение Воеводины жестоко разрушило все иллюзии относительно «дружелюбия» северного соседа.
20 марта 1861 года Милетич был избран градоначальником Нови-Сада – самым молодым в истории города. Огромную помощь на первых порах ему оказали работавшие в городском магистрате такие титаны мысли, как Йован Йованович Змай и Яша Игнятович. Первыми шагами Милетича на новом посту стали признание сербского языка официальным и постройка здания Городского дома в сербской части Нови-Сада. В том же году его избрали председателем Сербского союза читателей, и под его эгидой Милетич основал Сербский народный театр.
В 1866 году Милетич основал журнал «Знамя» – и вскоре он стал важнейшим и самым влиятельным печатным изданием сербов Австро-Венгрии. На протяжении многих лет Милетич оставался его главным редактором, написав огромное количество текстов исключительной ценности. В 1868 году он стал жертвой сфабрикованного судебного процесса, по итогам которого был осуждён австрийскими властями на год тюрьмы.
Находясь в тюрьме, Милетич старался по возможности получать свежие новости с сербской политической сцены. Когда ему сказали, что началось расслоение на множество разных партий и ему следует проявить компромисс, иначе он останется в одиночестве, Милетич спокойно заметил: «Я и начинал всё в одиночестве». Когда он вышел на свободу, его приветствовали торжественными церемониями, куда бы он ни приезжал. Известны слова Йована Йовановича-Змая: «Поднимите детей из колыбелей, чтобы они запомнили его вид!»
5 июля 1876 года Милетича арестовали на квартире в Нови-Саде, после чего осудили на шесть лет лишения свободы. Не получая помощи от последователей, регулярно подвергаясь психическому и физическому насилию со стороны австрийцев-тюремщиков, Милетич начал страдать от прогрессирующего психического расстройства. Выйдя на свободу, он так и не смог полностью оправиться от лишений. Четвёртого февраля 1901 года Светозара Милетича не стало.
Вскоре мы увидели, пожалуй, наиболее известный символ Нови-Сада – кафедральный собор. Его полное название – римско-католическая церковь имени Марии. Кстати говоря, хотя местные жители и называют эту церковь «кафедральным собором», формально это название ошибочно. Дело в том, что Нови-Сад принадлежит римско-католической епархии города Суботицы, и главная церковь всей епархии – то есть имеющая право называться кафедральной – находится в Суботице.
Любопытно, что у новисадского собора было сразу несколько предшественников. Первая католическая церковь была построена в начале XVIII века и просуществовала очень недолго: уже в 1742 году она была разрушена. В том же году здесь была построена новая церковь. В ходе бомбардировок 12 июня 1849 года её охватил пожар, при этом она лишилась часовни. Вернуть часовне первозданный облик не удалось.
В 1891 году было принято решение снести эту церковь и на её месте построить новую. Так и родилась современная церковь имени Марии. Проект новой церкви был разработан архитектором Молнаром, а финансировали стройку предприниматели Стефан Гусек и Карл Лерер. Впрочем, и новой церкви пришлось пострадать – в 1904 году её охватил пожар, в результате чего она почти полностью лишилась крыши. Тем не менее, ремонтные работы прошли удачно – и в наши дни эта красивая стройная церковь радует глаз.

Кафедральный собор в Нови-Саде
Вообще, Нови-Сад с первого же взгляда оставил абсолютно однозначное и чёткое впечатление. Этот город так же открыт для всех, как Белград. Но главное – это очень светлый город. Здесь даже в узеньких улочках есть ощущение открытости, светлости. Широкие же проспекты и площади вообще залиты светом, они словно воплощение света – в камне стен, в зелени деревьев, в сиреневой тени цветов, покрывающих открытые кафе. Поэтому для меня Нови-Сад – настоящий Город света. Забегая вперед, скажу, что в следующий мой визит сюда это ощущение лишь подтвердилось и стало ещё ярче.
Сели втроём передохнуть в уличное кафе под тентом. Солнце жарит вовсю. Изучаем меню.
– Может, кофе? – говорю я скорее для себя.
Миланка задумчиво бросает взгляд на плавящуюся от жары улицу.
– Самое время для кофе – хохочет она и заказывает лимонад.
Мы следуем её примеру.
Погуляв по центру, мы направились к знаменитой новисадской крепости – Петроварадину. Чтобы туда попасть, нужно по мосту перейти на противоположный берег Дуная.

Вид с моста на крепость Петроварадин
Раньше этот район города, где находилась крепость, был отдельным пригородом. Сейчас это официально Нови-Сад, но со своим колоритом и явственно ощущаемым налётом старины, заметным даже на расстоянии.
А уж когда заходишь туда и видишь эти постройки вблизи, почтенный возраст всего и вся бросается в глаза.

Нови-Сад – район Петроварадин

Подъём на крепость Петроварадин

Вид на Дунай со стен Петроварадина
Миланка обратила моё внимание на небольшую аккуратную часовенку, возвышавшуюся над крепостью. В годы Второй мировой войны местные партизаны постоянно меняли на ней время, дезинформируя оккупантов и проводя диверсии.

Часовня в Нови-Саде
…Я ехал в белградский аэропорт и думал о том, что увидел. Конечно, само по себе замечательно, что я познакомился с новым городом, новым лицом Сербии. Но не это было главным! Куда важнее было ощущение того, что всё это – только начало моего большого пути по дорогам чудесного уголка земного шара под названием славянские Балканы. Мой аппетит в этом плане закономерно рос, и я дал себе слово, что обязательно побываю не только в других городах Сербии, но и в других странах бывшей Югославии.
Но об этом – в следующих главах…
Часть 3. В стране горных ветров
«Пять Мартиновичей, храбрых братьев,
Грудь одна вас всех вскормила,
Колыбель одна вас всех качала,
Два Новака с Пимом-знаменосцем,
Вук Борилович, могучий витязь…
Кто венки победные сплетёт вам?
Памятник вашему героизму —
Черногория и её свобода!»
(П. Петрович-Негош «Горный венец»)
…Июль 2014 года. Вместе с другими пассажирами рейса Москва – Тиват я сижу в зале ожидания для VIP-персон. Нет-нет, я вовсе не богатей, любящий путешествовать «со всеми удобствами», как вы могли бы подумать. Просто отправление нашего самолёта безбожно задерживалось, и администрация аэропорта попыталась таким образом компенсировать наши неудобства.
И вот мы, рассевшись по креслам в уютном зале, стали коротать долгие часы ожидания. Благо, как раз в это время на футбольном чемпионате мира шёл матч Бразилия – Германия, и взгляды мужской части нашей компании прилипли к экрану. Правда, вывеска себя не оправдала: вместо упорной борьбы двух равных команд (на что наверняка закладывалось большинство любителей футбола) мы увидели избиение младенцев. Младенцами выступили бразильцы, которые из раза в раз зевали опаснейшие атаки «бундесманншафт». После третьего гола всё, по большому счёту, стало уже ясно.
Немецкая машина продолжала раскатывать несчастных «пентакампеонов» по газону, когда в зал вбежал парень из нашей компании – он каждые полчаса бегал узнавать, что там с рейсом.
– Наш самолёт только что вылетел из Турции в Москву! – выпалил он.
Итак, свершилось! После многочасового ожидания в аэропорту «Домодедово» наш самолёт всё же взял разбег на взлётной полосе. Часы показывали 02.30 ночи. Из-за позднего времени вылета решено было отправить нас не в Тиват (как было указано в билетах), а в Подгорицу. Дело в том, что тиватский аэропорт ночью не работает, в то время как «Голубовци» являются круглосуточной воздушной гаванью.
…Прошло два года с тех пор, как я впервые побывал на Балканах, и я решил, что пора бы уже посетить какую-нибудь другую страну. Выбор пал на Черногорию, как на наиболее доступный для меня в то время вариант. Излишним будет уточнять, что эта страна представляла для меня интерес не своими пляжами у моря, а совсем другим…
Полтысячи лет назад это был, по сути, узкий клочок земли на побережье Адриатического моря, представляющий собой сплошные горы и ущелья с редкими вкраплениями горных долин. С вершины горы Ловчен можно было разглядеть всю черногорскую землю от края до края. Исстари тут жили православные сербы, давшие этому клочку земли название Црна Гора (дословно – «Чёрная гора») и называвшие себя черногорцами. Суровые условия наложили свой отпечаток на их образ жизни: превыше всего у черногорцев испокон веков ценилось воинское искусство. С ним связаны многие народные черногорские обычаи: например, парень, дабы получить право жениться на любимой девушке, должен был одним выстрелом попасть в цель, которую вешали высоко на дереве. Плохой приметой считалось, если кто-то переступал через лежащее на земле оружие. А качество ружья оценивалось по тому, сколько раз в горах отзовётся эхо после выстрела. Чем больше – тем ружьё лучше…
Немудрено поэтому, что Черногория, долгое время отождествлявшая себя с Сербией, и всегда встававшая в войнах на её защиту, получила неофициальное название «сербская Спарта». Спартанский дух, мужество и воинская доблесть тут ценились чрезвычайно высоко. И возможно, именно поэтому в тяжёлые для всего региона столетия турецкой экспансии Черногория сумела отразить вторжение турок, сохранить свободу, обычаи и веру…
…В четвёртом часу ночи по местному времени прибываем в Подгорицу. Я сразу же беру такси до отеля «Европа», который мне порекомендовал мой друг Влайко. Позже я пойму, что он был прав – демократичные цены, хороший сервис, искренний и заботливый персонал, а главное – 5 минут пешком до железнодорожной и автобусной станций – что ещё нужно человеку, приехавшему в Черногорию не просто поваляться на пляже, а увидеть страну?

Отель «Европа» в Подгорице
Одним из первых меня встречает сотрудник отеля, представившийся как Зоран. Решив не откладывать более тесное знакомство со мной в долгий ящик, он приглашает меня на террасу выпить чашечку кофе. Усевшись за плетёным столом и поёживаясь от ещё прохладного ночного ветерка, мы разговорились. Довольно неожиданно наша беседа была прервана неким субъектом весьма интересного и в той же мере подозрительного типа. Это был мужчина лет примерно сорока пяти, в куртке и штанах из плотной ткани, в левой руке он держал удочку, а во рту у него была зажата незажжённая трубка. Своей свободной рукой, покрытой татуировками, он отвёл Зорана в сторонку и что-то спросил. Зоран ответил ему, после чего последовала ещё пара вопросов почти шепотом. Наконец незнакомец, видимо, узнал всё, что хотел, подошёл к нашему столику, пожал нам руки и направился к выходу. На выходе он развернулся, отсалютовал нам и громогласно произнёс: «Смерть фашизму – свобода народу!»
– Вы его знаете? – спрашиваю Зорана.
– Первый раз вижу! – удивлённо откликнулся мой новый знакомый.
Начало своего первого дня в Черногории я посвятил осмотру тех районов Подгорицы, что прилегали к отелю. Это старые районы, вероятно, ранее бывшие частью Старого города. Здесь нередко попадаются старые, полуразрушенные здания, заброшенные постройки. Улочки узкие и иногда весьма неопрятные там, где в них скапливается выброшенный мусор. Есть, с другой стороны, и очень живописные уголки, где каждый старый дом огорожен забором, сплошь увитым зеленью и цветами. Один из самых распространённых цветов тут – красный вьюнок, его большие ярко-красные цветы видны чуть ли не на каждом заборе.

Подгорица
Поблизости обнаружилось здание Почты Черногории. Интересно, что Черногория начала выпускать собственные почтовые марки ещё в 1874 году, будучи монархией. Затем последовал долгий перерыв, когда страна находилась в составе Югославии и по понятным причинам не могла выпускать собственные марки. Возобновила их выпуск Черногория только в 2005 году – за год до объявления независимости уже в виде республики.

Почта Черногории в Подгорице
Гуляя по этой части Подгорицы, нашёл я ещё одно место, заслуживающее внимания. Это площадь жертв Голи-Отока. Она названа так в память о тех политических заключённых, которые так или иначе погибли на территории особого лагеря Голи-Оток.
Лагерь находился на одноимённом острове в Адриатическом море – почти безлюдном клочке суши, откуда практически невозможно было бежать. Его основала политическая верхушка Югославии в 1949 году. Это решение было вызвано тем, что годом ранее произошло резкое охлаждение отношений между вождями Югославии и СССР – Тито и Сталиным. При этом в партийном аппарате Коммунистической партии Югославии осталось немало людей, желавших сотрудничать с СССР – как тогда говорили, «с Информбюро». Они подвергались «чисткам» – гражданских коммунистов отправляли на Голи-Оток «на перевоспитание» без суда и следствия, а военных – после обвинений на инсценированных судебных процессах с заранее предопределённым исходом.
Если верить списку, который составили полицейские службы особого назначения в 1963 году, за время с 1949 по 1956 годы через лагерь Голи-Оток прошли более 16 тысяч человек. Из них умершими в лагере числятся 413 – часть из них была ликвидирована, ещё часть покончила с собой, лишь некоторые умерли естественной смертью.

Мемориал в память о жертвах лагеря Голи-Оток в Подгорице
…На мой взгляд, Подгорица – довольно непримечательный город, крайне слабо соответствующий нашим стандартным представлениям о столице европейской страны. Тем более, что и столицей-то она является лишь в политическом смысле. Более точно будет называть Подгорицу «главным городом» – поскольку статус номинальной столицы принадлежит городу Цетине. Чтобы понять, насколько Подгорица действительно Главный город с большой буквы, достаточно одной лишь статистической детали: почти треть всего населения страны – жители Подгорицы!
В античную эпоху неподалёку от современного города, возле впадения реки Зеты в её «старшую сестру» – Морачу, располагался древнеримский город Диоклея, или Дукля. В Средневековье на этом месте образовалось поселение Рибница (не следует путать его с одноимённым городом в Словении). В 1878 году Подгорица вошла в состав Княжества Черногория. Статус административного черногорского центра город получил в 1946 году – правда, под другим именем: в годы социалистической Югославии он назывался Титоград в честь национального лидера – Иосипа Броз Тито. С 3 июня 2006 года Подгорица – главный город независимой Республики Черногория.
…Во второй половине дня я отправился на автобусную станцию и взял билет до Бара. Погода стояла прекрасная (как выяснится позже, это был первый и последний день с хорошей погодой). Дорога до Бара оставила много ярких впечатлений, яркость которых подпитывалась их новизной. Почти всю дорогу видны были горы – или так близко, что каменные стены практически нависали над серпантином, или так далеко, что представляли собой едва заметную дымку на горизонте. Большую часть пути пейзаж из окна автобуса был довольно однообразным – горы да долины – пока из-за ближайших скал, закрывших почти весь горизонт, вдруг не выскочила на наше обозрение широченная водная гладь. Она была настолько могучей, простирающейся почти до горизонта, настолько фундаментальной со своими лёгкими волнами с барашками серебристой пены, что я первые несколько минут был уверен в том, что вижу море.



