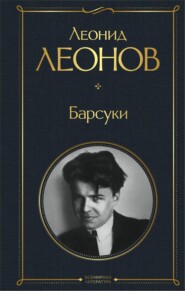скачать книгу бесплатно
– Иевлев-то, значит, не приедет? – оттягивая неприятные вести, прервал Быхалов. – А может, чайку со мной попьете? Я прикажу заварить…
– Нет, нет… – испугался гость, аккуратно выставляя ладони против Быхалова, – я спешу… Видите, предполагалась операция, военная операция, вы понимаете? Мы с вольноопределяющимся, то есть с сыном вашим, вышли вдвоем в разведку. Место очень, знаете, паршивое; названье Чертово поле… солдаты так прозвали. Ползем на брюхе… – Прапорщик потеребил огненный темляк шашки и неуверенно откашлянулся в папаху. – Налезаем – проволока, в три кола! Вот я вам сейчас чертежик нарисую, как дело было… Вот тут, извольте видеть, холмик небольшой, а тут – фугасное поле. Здесь – пулеметное гнездо, понятно? – сыпал прапорщик, указывая на неразборчивый мохнатый клубок. – Вот тут мы и шли… то есть ползли.
– Погоди, я газ зажгу. Ничего не видно, – тихо остановил Быхалов.
– Не зажигайте… прошу вас! – встрепенулся прапорщик и мгновенно спрятал книжку. – К тому же мне и бежать нужно!..
– А ты не спеши!.. – придержал его Быхалов. – У меня сыновей не каждый день убивают. Уж потешь старика лишней минуткой!
– Ничуть не бывало, ничуть не бывало! Я когда уезжал, Пётр Зосимыч в полном покуда здоровье был, – сказал прапорщик, и вдруг лицо его приняло выражение отчаянной решимости. – Нет, не могу, виноват!
– Чего не можешь-то, молодой ты человек? Ты все в жизни моги, раз в живых остался.
– Врать не могу, – мотая головой, простонал прапорщик. – Сына вашего все мы очень ценили за прямой, мягкий характер, а нижние чины души не чаяли… Вот и наказали перед отъездом, чтоб уведомил вас с возможной осторожностью!.. Пётр Зосимыч арестован в конце прошлого месяца: против войны солдатам высказывался. Но вы не расстраивайтесь пока: дело получилось двойное, и есть надежда, что пойдет оно в окружной, а не в военно-полевой суд… – и, вымахнув все начистоту, затеребил кончик наплечного ремня.
– Та-ак, – покачивался на табуретке Быхалов. – Вот и мягок, а упорен был: дотянулся до горькой чаши своей. Что ж, беги и ты… небось повеселиться охота в отпуску-то. Смотри, не бунтуй… скуплю поди на веревке-то висеть!
– Так что прошу прощения за печальное известие, – уже оправившись, держа папаху на отлете, поднялся прапорщик.
– Да, уж лучше бы ты мне дом поджег… Кому же мне теперь посылочку-то приспособить? Себе возьми, за услугу. Бери, неловко отказываться. Без креста, без пенья закопают, пусть хоть добрым словцом люди помянут…
Он пошел проводить гостя, цеплявшегося шашкой за ящики, кадушки и чаны, потом долго стоял у проплесневелой стены, сцарапывая с нее бугорки масляной краски. Казалось, жизнь свою тратил скупее всех, по копеечке, а на поверку выходило, что ничего на нее не было куплено.
– …Эх, Петруша, Петруша! – вслух сказал он, и лицо его сморщилось.
XIV. Один вечер у Кати
Они стали встречаться у Кати, вечерами, по истечении торгового дня.
Настя прибегала, закутанная в платок потемней, с черного хода, всегда раньше Сени; забивалась в угол и ждала. Неясные предчувствия грозных событий, копившиеся в воздухе страны, заставляли ее заранее искать опоры, а никого не было ближе Сени, сильного, дерзкого, готового постоять за себя. Встречи эти, довольно редкие вначале, происходили в присутствии Кати; чтоб не стеснять подруги, та писала письма или бренчала на гитаре, изредка справляясь о Настином самочувствии.
– Я понимаю, как трудно сейчас с женихами, но ты напрасно так волнуешься. Им и виду нельзя показывать, а то зазнаются… их вот здесь надо держать, – и казала сжатый кулачок. – Однако что ты нашла в нем, в этом кудряше из бакалейной?
– Не знаю… – шептала Настя, кляня себя за малодушье.
– Имей в виду, я могу и уйти… будто за орехами. Только мигни…
– О нет! – Ее глаза ширились испугом, а руки тискали вялые Катины пальцы.
– Я к тому, Дианочка, что ведь год его подходит… могут и в солдаты забрать!
– Молчи…
Сене тоже бывало не по себе в этой душной комнатке с горочными запахами, обставленной с показной купеческой роскошью, среди множества бесполезных и хрупких пустячков, единственный смысл которых, казалось, заключался в том, чтобы сковать естественную широту человеческих движений. Он становился застенчивым, злился, однажды пришел с гармоньей, рассчитывая этим заменить невязавшийся разговор; Катя сказала ему тогда довольно резко, что это не деревенские посиделки, и в городе надлежит вести себя пообходительней.
Иногда, в стремлении скинуть с себя Настин плен, он хвастался своими надеждами на будущее по окончании войны: хозяин все кряхтит, уж монахов зовет на задушевные беседишки… и в конце концов совсем не известно, Карасьеву или ему, Сене, стать наследником быхаловской фирмы. Он говорил отрывисто, полунамеком на счастье той девушки, которая согласится разделить его мечту; краска заливала Настины щеки, и сама Катя украдкой любовалась им в такие минуты.
В другие вечера он обращался к памяткам детства, где таились корни его презренья к городскому укладу; так рассказал он с маху одно самое давнее событие, какое помнил, и смысл его повести был таков:
Про 1905 год
…Бунт был. И приехали с вечера из Попузина сорок три мужика с подводами остатнее в уезде помещичье именье дожигать. Ночевало из них шестеро в Савельевом дому, главари. Ночь напролет, тверезые и темные, скупыми словами перекидывались бунтари. Боролись в них страх и ненависть. Речи их были скользки.
– На что ему земля! – сказал один, с грустными глазами. – Он небось и сам-то не знает, куда ее, землю-то, потреблять. Лепешки из ей месят, либо во щи кладут…
Другой отозвался, глядя в пол:
– Конешное дело, друзья мои! Мы народ смирный, мы на точке закона стоим. Нас не обижай, мы и помалкиваем. Каб, скажем, отдали нам земельку-то всю чохом, в полный наш обиход, мы б и молчок. А ему бы дом остался. Пускай его на поправку к нам ездит, мы не противимся.
Третий сверкал светлыми детскими глазами:
– Во-во! Воздухи у нас в самый раз хорошие! Дыши хочь все лето, и платы никакой не возьмем!..
Потом заснули ребятки на полатях, Пашка и Сенька, не слыхали продолжения разговора. Много ли их сна было – не поняли. Проснулись на исходе ночи. В тишине, одетые и готовые, сидели бунтари.
Крайний бородач царапал ногтем стол. Сосед сказал:
– Хомка… не корябай.
И опять сидели. Потом длинный худой мужик, попузинец, встал и сказал тихо, но пронзительно:
– …Что ж, мужики? Самое время!
На ходу затягивая кушаки, на глаза надвигая шапки, мужики выходили из избы. Савелий, отец, с ворчаньем шарил под лавкой топор и мешок: топор – рубить, мешок – нести… Пашка вскочил и стал запихивать в валенок хромую ногу. Сеню от возбуждения озноб забил, – так бывает на пасху, когда среди ночи встрепенутся колокола.
С буйным, веселым треском горел на горе свинулинский дом. Дыма и не было совсем; гулко лопались бревна, оттуда выскакивал прятавшийся в них красный огонь. Небо было ровно с грязнотцой, просвечивало серое солнце; воздух был какой-то настороженный. Тонким слоем снега белела ноябрьская земля.
На полпути к свинулинской усадьбе холм торчал. На нем, вокруг размашистой голой березы, замерло в пугливом любопытстве деревенское ребятье. Было ребяткам тревожно и радостно.
Вдруг запрыгал Васька Рублев, белый мальчонок, в отцовских стоптанных сапогах, забил в ладоши и закричал. Из ворот усадьбы, из самого огня, огромный и рыжий, вырвался племенной свинулинский бык. Ослепленно поводя рогами, он остановился и затрубил, жалуясь и грозя. Но в бок ему ударилась головня, метко пущенная со стороны. Тогда, облегченный болью и яростью, к запруде, где стояла когда-то сигнибедовская маслобойка, помчал он свое опаленное тело. Там, в последний раз пронзив рогами невидимого врага, он взревел, обрываясь в воду. Бурное, величественное мычанье донеслось до оцепенелых ребят; потом бучило поглотило быка.
…А через неделю наехали из города пятьдесят чужеспинников, с пиками и ружьями, под синими околышами, откормленные кони их беспрерывно ржали. При полном безмолвии взяли пятерых и отвезли судить, скрученных. А Евграфу Петровичу Подпрятову, да Савелью Рахлееву, да Афанасу Чигунову, как имевшим военные отличия, дали только по горячей сотенке розог, чтобы памятовали накрепко незыблемость помещичьего добра. Молча, с опущенными головами, стояли вокруг согнанные мужики. Голосить по мужьям боялись бабы, но чудился в самом ноябрьском ветре глухой бабий вой.
…И на всю жизнь запомнили ребятки, как натягивал и застегивал перелатанные портки на всем миру Савелий, плача от злобы, боли и стыда. Тянуло с поля мокрым снежком, а мать, босая, как была, выпрямленная и страшная, всю порку простояла на снегу… Кому ж тогда, как не городу, приходящему ночной татью, приносящему закон и кнут, грозил в потемках полатей Сеня негрозным отроческим кулачком?..
– С того-то отец мой Савелий и нищать стал, и к вину ударился. – Так заключил Сеня свой рассказ и, стесняясь, круто опустил голову. – Ничего, сочтемся!
– Я таких вот люблю, – вслух сказала Катя подруге. – Лихого ты себе выбрала, смотри – с лихим горя изведать!
– Любить не люби, а почаще взглядывай, – возбужденно засмеялся Сеня, заметив пристальный, оценивающий Катин взгляд.
– Зачем ты ногти грызешь? – резко спросила Настя у Кати.
– А тебе какое дело? – насмешливо возразила та.
– Есть, значит, дело. Ты вот… – И, склонясь к Катину уху, Настя укоризненно зашептала что-то.
– А как я на него глядела… да что с тобой? – громко обиделась Катя.
– Ну, не надо вслух! – Настя пугливо оглянулась.
– Да нет, я не понимаю… Украла я его, что ли, у тебя?
– Пойдем, Настя, я тебя провожу, – сказал Сеня и встал.
Они вышли, и оба торопились.
– Мне гадко у нее стало, она нехорошая… – говорила Настя уже на лестнице. – И мне не нравится, как ты сегодня говорил. Словно в театре как-то. За что ты городских ненавидишь? Ведь ты и сам городской! В городе и останешься…
– Почем знать? Ноне времена не такие. День против дня выступает, – неопределенно отвечал Сеня. – А вот насчет театра… это уж не театр, если кровь из отца течет. Тут уж, Настюша, драка начинается!
– Я и целовать тебя не хочу сегодня. У тебя и сейчас глаза красные, – сказала Настя тихо и пошла от него, не оглядываясь.
– Всегда глаза красны, коли правду видят! – крикнул ей Сеня вдогонку; потом подошел к стене и с маху ударил в нее кулаком. Мякоть руки расцарапалась шероховатым камнем до крови. «Вот она!» – вслух подумал Сеня, глядя на руку.
Это случилось в пятницу…
…А в субботу Сеня как-то нечаянно написал свой первый и последний стишок. Стоял и щелкал счетами, подсчитывая покупательские книжки. В голове своим чередом бежали разные думки, а среди них вплетались полузабытые стихи из какой-то катушинской книжки.
Оторвавшись от дела, он попробовал на память восстановить утерянную строчку, но получилось как-то совсем иначе. Так, строку за строкой, он придумал все стихотворение сызнова.
Холодея и волнуясь, он стоял над столбцом полуграмотных строк, перечитывал, открывая в них все новые прелести. Ему особенно нравилась концовка стихотворения: «Покой ангелы пусть твой хранят!»
XV. Катушин тоже закричал
…Совсем забыл Сеня Катушина.
Настя была для Сени – жизнь, смех, буйный трепет любовной радости. Катушин – уныние, безволие жизни, недвижность тишины. Тот давний поцелуй в воротах безмерно отдалил Сеню от Катушина. В такой же степени потянуло его к Степану Леонтьичу после первой размолвки с Настей.
В обед он поднялся по каменной лестничке наверх прочесть ему свои первые стихи. Приоткрыв дверь, он осмотрелся и не узнал сперва этой непривычно чистой, полуопустелой комнаты. Недобрым предчувствием сжалось Сенино сердце.
Коечка старика была задернута пологом. Не было обычной табуретки у окна, на которой сиживал с книжкой в праздничные дни Степан Леонтьич. Зато рядом с койкой сидела рябая баба и сонливо вязала чулок. Заметив Сеню, она просунула спицы между головным платком и виском и почесала там.
– Тебе что? – спросила она враждебным полушепотом.
– Мне Степана Леонтьича… – просительно сказал Сеня.
– Дверь-то закрой сперва, – заворчала баба. – Если по делу, так вот он тут лежит. – Она кивнула на койку, закрытую пологом. – Уж какие дела к мертвому!
В то мгновение из-за полога раздался короткий, глухой рывок кашля. Сеня подошел и бережно отвел полог в сторону. Катушин, еще живой, лежал там, свернувшись, точно зябнул, под крохотным квадратным одеяльцем из цветных лоскутков. Когда он перевел взгляд на Сеню, тот поразился тусклому спокойствию стариковых глаз. В поблекшем, мертвенном лице не было никакого оживляющего блеска, – может быть, из-за отсутствия очков.
– Здорово, Степан Леонтьич, – сказал Сеня и попробовал улыбнуться.
– Кто? – не узнавая, жестким, надтреснутым голосом спросил Катушин.
– Это я, Семён. Прихворнул, что ли, Степан Леонтьич?.. – Сене стало стыдно, что вот он – здоровый, а Катушин – больной.
– Да, – невыразительно сказал старик и порывисто сжался, точно коснулись его холодом. – Садись, гость будешь.
– Ты, паренек, посидишь тут? – спросила баба еще, залезая спицей себе за ворот. – Посиди, мне тут сбегать. Обряжать-то не скоро еще! – жестко и просто сказала она, складывая вязанье на выдвинутую из-под катушинской кровати корзиночку.
– Что ты, дура, мелешь… кого обряжать? – озлился Сеня, но баба уже ушла за дверь.
Сене вдруг стало жутко от наступившей внутри него тишины. Рвалась старой дружбы нить, ее не связать вновь. Притихший, но полный внезапного глубокого чувства, Сеня пересел к Катушину на койку. Ему хотелось быть в ту минуту ближе к старику.
– На табуретку сядь… не тревожь, – сухо сказал Катушин и подвигался под одеялом. – Руки гудут все!
Сеня покорно пересел обратно на табурет и уже боялся начинать разговор.
– Что-то не признаю я тебя, – продолжал Катушин. – Плохо стал людей различать… Все мне лица одинаковые стали.
– Я Семён… от Быхалова. Помнишь, ты меня грамоте учил, книжки давал. Я вот навестить тебя пришел, Степан Леонтьич.
– Помню, – без выражения сказал Катушин, – так ведь тот маленький был!
– Я вырос, Степан Леонтьич, – извиняющимся тоном произнес Сеня и смятенно стал стирать пятно с пола носком сапога.
– Не ширкай, не ширкай… – остановил Катушин и кашлянул разок.
Прежнего задушевного разговора не выходило.
– …По картузу в день – считай, сколько я их за всю жизнь наделал! – снова начал Катушин, и лицо его на короткое мгновение отразило тоску. – Картузы сносились, вот и я сносился… – Сеня заметил, что старик сделал движение под одеялом, точно махнул рукой. – Я тебя теперь помню. Ты забыл, а я помню… Я все помню! – Что-то прежнее, незабываемое промелькнуло в катушинских губах.
– Давно лежишь-то? Что болит-то у тебя? – неловко допрашивал Сеня.
– …Я тебе тут бельишко оставлю, не отказывайся. Подшить, так и поносишь! – продолжал вести свою мысль Катушин.
– Ну, поживешь еще! Спешить, Степан Леонтьич, некуда. Человеку сто лет сроку дано, – заторопился Сеня. – Это баба чулошная тебя так настроила. Я бы ее турнул, бабу, – право, турнул бы!..
– Бабу не тронь… она за мной ходит, баба, – поправил Катушин.
Сеня встал и отошел к окну. Он обмахнул рукавом запотевшее стекло и глянул наружу. Поздней осени гнетущее небо продувалось из края в край острыми холодными порывами. Настин дом казался безотрадно серым. Темные окна не пропускали чужого взгляда внутрь.
«Настя… она не знает, что я тут. Степан Леонтьич помрет. Меня возьмут в солдаты…»
– Паренек… – заворочался Катушин, силясь поднять голову с пролежанной подушки, – дай-кось водицы мне… на окошке стоит.
Старик пил воду, чавкал, точно жевал. Отпив глоток, он внимательно глядел в низкий, прокопченный потолок, потом опять пил.
– …Четвертого дня просыпаюсь ночью, а он и стоит в уголку, смутительный… дожидается, – сказал Катушин, откидываясь назад.
– Кто в уголку? – и невольно оглянулся в угол.
– Да Никита-т Акинфыч, дьячок-то мой… приходил. Я ему: ты подожди, говорю, деньков пяток. А он: что ж, говорит, догоняй, подожду.
– Это тебе мерестит, Степан Леонтьич, ты противься… – убежденно сказал Сеня. – Ты не верь. Это истома твоя.
– Никита-т истома? – строго переспросил Катушин. – Не-ет, Никита не истома.