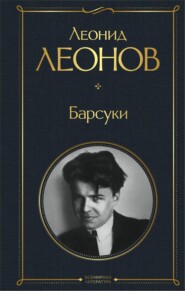скачать книгу бесплатно
– Пётр… Петруша!.. – кричит он в глубь подвала. – Ты здесь, а?
Пётр выходит из подвала, подслеповато щурится на коптилку, улыбается, молчит.
– Как попал сюда?.. – спрашивает отец. – Деньги, что ль, заперся выделывать? Кто тебя запер?
– Да я сам… нечаянно. – Смеющийся голос Петра особенно ненавистен Пашке.
– Не мог же ты снаружи запереться, чего ты мелешь?
– Наверно, мальчики подшутили, – сознается Пётр. – Особенно этот, старший. Ужасно недоверчивый народ, папаша! – И опять, слышно, Пётр смеется.
Быхалов-старик выжидающе молчит, потом сурово подымает голос:
– Ну а если бы он тебя по морде хватил… ты тоже смеяться бы стал?
Близкая к Пашке дверь скрипит: «Ага, каменная стена приближается!» Пашка сжимается в клубок и материной кофтой, в которой приехал, закутывает голову, темя. Снова вперемежку, раздирающей глаза каруселью, несутся: пойма, Марфушка с косой, кровь, рассыпанные ягоды. Звук шагов замолкает рядом.
– Что ты хочешь с ним делать? – слышен Пашке тревожный голос Петра.
Старик, не отвечая и сопя, ищет щелку в кофте. Мальчик глубже зарывается в тряпье, но рука Быхалова протискивается к самой голове и, приноровись, хватает за ухо…
В то же мгновение Зосим Васильич вскрикивает, более от испуга, чем от боли. Он растерянно трясет рукой, а на конце мизинца повисает темная капелька крови.
Сам Пашка уже стоит ногами на койке, готовый броситься, прижавшись к стене. Его влажные зубы блестят в потемках. Лицо его смутно и серо, но румянец бьет дико, как осенний закат.
– А, вот как! – мычит Зосим Васильич, обсасывая прокушенный палец. – Ну, слезай. Стоять тебе там нечего… – Он идет к кровати, достает из-под подушки клеенчатый бумажник – в нем Пашкина метрика. Кстати обертывает палец в красный носовой платок. – Собирайсь! – решительно командует он.
– Куда, куда ты его гонишь? – умоляюще вступается Пётр, но Быхалову не до Петра.
Пошатываясь, Пашка набивает в линялую, застиранную до дыр наволочку свои убогие пожитки.
– Да ведь ночь же!.. – в отчаянии за Пашку говорит Пётр и делает неопределенное движение рукой, поясняющее, как темна и неприютна весенняя ночь.
– Не мешай, – властно говорит старик Быхалов. – Тут не игрушки тебе, тут жизнь! В жизни всегда ночь. Одновременно Пашка выступает вперед.
– Вы засуньте пачпорт-то в карман мне, – просит он сипло. – У меня руки не действуют… – и выставляется боком, где карман.
– Вот что, братец, – не сразу начинает Быхалов, но по губам Пашки бежит тонкая струйка насмешки, и тот как-то меркнет лицом. – Ведь ты, братец, этак-то и убивать возможешь. А в том, что поучить тебя хотел, особой обиды нет. И сам вот так же учен был. Чем больше, братец, по горбу бьют, тем больше горб и стоит… Причащался ведь я нынче, – прибавляет он через минуту совсем упавшим голосом.
– Прощенья проси! – заплетаясь языком от волнения, шепчет Пётр. – Мальчик, проси прощенья… и все кончено, ну?
– Сам проси, коли охота напала!
Мерно покачиваясь на хромую ногу, Пашка идет к двери. Узел свой он прижимает к груди как-то локтями. С порога оборачивается:
– Там за вами еще полтора рубля оставалось… Сеньке отдайте. Он к Катушину побежал…
– Постой, я тебе сразу выдам, – спешит Зосим Васильич, но Пашка уже ушел.
Дверь притворена неплотно. К ногам бежит морозный холодок. За окном полная ночь.
…Попозже, через час, Пётр заходит к отцу и садится в ногах. Тот лежит по-прежнему, одетый, немигающий. В головах у него как-то особенно намекающе и нравоучительно тикают часы.
– Пришел?.. – жестко спрашивает отец. – Ну, посиди, посиди у меня. Вот так мы и живем, Петруша. Варимся, и поблагодарить некому. Ишь проносились штиблетки-то твои, песок в них и то не удержится! – замечает он, глядя на свесившиеся худые и длинные ноги Петра. – Отнеси завтра к сапожнику, походи в моих пока.
– Папаша, – мягко прерывает его Пётр, обводя пальцем квадратики лоскутного отцовского одеяла, – я все сказать вам хотел, времени вот только не выходило… Меня не совсем еще выпустили. Через две недели второе дело в судебной палате будет слушаться…
– А-а, – холодно внимает отец. – Тянет тебя в тюрьму, Петруша. Жрать, что ли, тебе на свободе нечего?
– Мне-то есть что, – с мягкой настойчивостью отвечает Пётр. – Хотим, чтоб все, папаша, жрали…
Они сидят, не глядя друг на друга. Вдруг Петру кажется, что он сказал грубость. Длинноносое лицо его бледно краснеет.
– Папаша, я и позабыл вас с ангелом-то поздравить. С ангелом, папаша!
– Нашел время, Емеля! – тоскующе усмехается отец и легонько толкает сына в плечо. В голосе быхаловском – и жалоба на свое нехорошее одиночество, и грустная насмешка над суетой Петра.
Петр уходит спать.
Еще через час – уже полный сон. Газ потушен. Вверху, на полатях, с остервенением и вывертом, словно напилком стекло режет, храпит Карасьев.
Внизу, рядом с пустой койкой, ворочается без сна Сеня. Ему и холодно, и чего-то страшно. Будто – поле, огромное, ровное, ночное. И в поле этом разошлись пути братьев на две разные стороны…
VII. Девушка в гераневом окне
Каждому цвету свой черед, пришла пора и Сенина. Вот уж и Семёном стал звать Сеню Быхалов: с Успенья тронулся Сене восемнадцатый год. Время Сенино к убыли не спешило. Но когда восемнадцатого побежали первые дни, стал вдруг виться Сенин волос. Раньше все в скобку стригся, маслом утихомиривая непокорный затылочный вихор. А тут взыграли щеки Сенины румянцем, а голова – кольчиками; никакого с ними сладу нет. Не всех в могилу гнало Зарядье.
У Сени глаза серые, а брови, свидетельствуя о силе и воле, вкрутую сбежались к переносью. Жизни в него до краев налито. Она переливается могучими желваками на его спине, под рубашкой, она играет на алых Сениных губах. Вырос и поширел: скоро тесна станет Сене неглубокая, невысокая зарядская скудость.
За пять лет житья в бакалейных молодцах не устал Сеня бегать к Катушину, в его подчердачную высоту. К лету восемнадцатого своего года все катушинские книжки перечел Сеня, не ускользнула ни одна. Каждая из обтертых, скользких ступенек катушинской лестницы имела свое обличье и место в Сениной памяти… Взбегал, быстро проходил темный коридор с бесчисленным количеством дверей и рывком распахивал одну из них.
Так случилось и в это воскресенье, после закрытия лавки. В окна мастерской, где работал и жил Степан Леонтьич, широким снопом западало солнце, ярко и оранжево располагаясь и на войлочной двери, и на полу с обрезками сукна, марли, ваты и картона. Когда растворилась дверь и в солнечном пятне явилась белая Сенина рубашка, даже зажмурился Степан Леонтьич: уж не выносили света его слепнущие глаза.
– Чтой-то ты горячий какой нынче? Словно из печки только что вылез, выпекли…
– Книжку назад принес. – Улыбка Сенина широка и свободна.
– Всю прочел? – жмурился Катушин.
– Всю-то всю. Сочинение хорошее, слов нет. Только вот уж больно про любовь много. Словно у них и дела другого нет: влюбляются да расходятся.
Катушин улыбался: поздняя старость наблюдала раннюю младость.
– Все к тому и течет, Сенюшка. И нет другого дела, правда твоя. Которы любят, те и счастливы. Ты знай: весь мир приобретешь, и он тебя обманет, а любовь…
– …спасет, – докончил за Катушина Сеня. – Это ты вон из той книжки, Степан Леонтьич, говоришь. Я читаал… – протянул Сеня. – Там дальше так сказано: но если обманет тебя любовь, то больней ее обман, чем обман целого мира. Только, по-моему, все это враки. – И со смеющейся недоверчивостью Сеня садится возле старика.
– Что ж, обманывать, что ль, я тебя буду? – хитровато посмеивается Катушин. – И я ведь не всегда этаким сморчком по свету вихлял. Я тебе из правды жизни сказал, а не по книге…
Уже через три минуты от катушинской веселости нет и следа. Он грустно молчит, погружаясь в свои воспоминания. Выпуклые очки снова дрожат на его крохотном носу, брови по-детски подняты.
– …Очень мне хотелось грамоту вот тоже осилить, – сутулясь еще больше, рассказывает Катушин. – Меня тогда дьячок и приютил один, из соседнего села. Я к нему бегал тайком, чуть не замерз раз, во вьюгу побежал. Я у дядьки жил, дядька и не пускал: «Мы без грамоты прожили, и тебе пачкаться не след!» А дьячок меня и учил… Вот как кончилось обученье, он и говорит мне напоследях, дьячок мой: «Ну, говорит, Степан, все я тебе, что имел, передал. Ничего у меня, Степан, боле нету. Лапти вот еще умею плести, хочешь – обучу. А дальше уж ступай, как сам знаешь!»
Сеня смотрит в окно. Ветерок задувает к нему в лицо и перебирает кольчики Сениных волос, нежно, как женская рука. Грудь дышит тяжким запахом накаленного железа и камня. Обычные зарядские запахи боятся солнца, бегут глубже – в провалы проходных ворот, в купеческие укладки, во мраки костоломных лестниц. Сеня любит глядеть из катушинского окна: видно много.
Каменные невысокие этажи с суровой простотой возносились кверху. Предвечернее солнце калило воздух, мягчило асфальт, как воск, оранжевой дымкой одевало пыльную московскую даль. А внизу крались кривые переулки, и в них стоял небудничный гам. Ремесленное Зарядье погуливало, лущило семечки, скрипело гармоньями, изливалось в унылых песнях. Каждому зарядцу отведено в празднике свое особое место. Дудину – в сыром подвале чокаться с бутылкой, Быхалову – умиляться над киевским патериком, сказаньями о святых подвижниках, Карасьеву – все гулять по переулочкам, перемигиваясь со встречными девушками.
На все это Сеня смотрит теперь со смешанным чувством вялого любопытства и удивления. Вот по этим же руслам, в Зарядье, потечет и его собственной жизни река. Спокойна ли будет, порожиста ли, и когда обмелеет – в чьих жизнях затеряется ее конец?
Внезапно услышал Сеня старческий всхлип позади и как бы шуршанье бумаги.
Катушин сидел теперь к нему спиной, и за линялым ситцем его рубахи странно суетились стариковские лопатки.
– Да о чем ты, Степан Леонтьич, старичок милый? – кинулся к нему Сеня.
– Ничего… ничего, дружок. Спасибо тебе за ласку твою… Дьячка своего вот вспомнил. – Катушин уже улыбался, и лицо его, разглаженное улыбкой, походило на последнюю страницу книги, обрызганную слезами. – Весь небось растворился в земельке, года немалые. Как обучил он меня лаптям, так и помер в недельку. Ну вот и я так же. – Выходило, что не Сеня утешал старика, а скорее старик примирял молодого с необходимостью смерти. – Не тревожься, паренек, будь крепенек. Одна глупость моя. Устарел я, а куды мне? В богаделенку меня не примут… Крови я не проливал, родины не спасал. А глаза-то, звона, покоя хотят. Берешь иглу в руки, а и не видишь иглы-то… и нитки не вижу! Так, паренек милый, пустым местом по пустому и шью. Только вот рука не омманывает…
Он сидел, ссохшийся калужский старичок, глядя в низкий потолок, под которым просидел всю жизнь, и кусал губами ноготок мизинца, как провинившийся мальчик, разбивший то, что дарят человеку однажды в жизни.
Жара за окном сменялась прохладой, предвещающе подуло влагой с реки. День закатывался куда-то за дома, дышавшие душной каменной истомой. Пьяный голос где-то внизу затянул песню, оборвался на высокой точке и умолк. На смену ему из раскрытого окна секретовского трактира запел трубным голосом орган. Задумавшись, Сеня неподвижно глядел в окно.
– …Все картузы да картузы, а ведь она-то не ждет! Пожалуйте, скажет, мыться да на стол!.. – слышал Сеня совсем издалека.
В двухэтажном доме напротив, в теневой стороне, открылось окно. В ветерке заколыхались кисейные занавески; за ними пылали на подоконнике пушистые ярко-красные герани и жирные бальзамины. Потом в окне явилась женщина или девушка, – было Сене не разглядеть.
Она поправила передничек, оперлась локотком о подоконник и, поглядев вниз, зевнула. Что-то привлекло ее внимание на крыше; раздвинув цветочные горшки, она высунулась из окна.
– Да улетайте же вы, улетайте… – закричала она, беспомощно хлопая в ладоши; вслед за тем она увидела Сеню в окне. – Там кот на голубей охотится, спугните его! Да скорей же, неповоротливый какой…
Она была такая праздничная, зовущая – в нарядном гераневом окне.
– Сейчас мы его уважим, – отвечал Сеня через улицу и успокоительно махнул рукой. – Только не уходи, побудь там еще немножко!
Не дослушав Катушина, он метнулся в дверь и скоро через разбитое чердачное окно вымахнул на крышу, громыхая по железу тяжелыми сапогами.
Опасенья, что уж поздно, оправдались: сытый бело-рыжий кот держал голубя в зубах, из разорванной шейки капала на раскаленную крышу кровь. В следующее мгновение он жалобно топырил лапы в сжатой Сениной руке… Но вот нога скользнула вниз, и одновременно девичий вскрик раздался в гераневом окне. Если бы не водосточный желоб, игра Сенина была бы проиграна… Покачиваясь, не выпуская добычи, он стоял на самом краю обрыва и силился овладеть пошатнувшимся сознанием…
Сперва он ощутил опасность и отодвинулся на полшага вверх по скату. Извернувшись, кот царапал ему руку, а девушка еще кричала что-то из гераневого окна, и Сеня с удивлением различал в ее голосе сердитые нотки. Все еще кружилась голова – не мог уловить причины ее гнева…
А та нетерпеливо барабанила ладонями по железному отливу подоконника.
– Да отпустите же его, вам говорят… Это наш кот! – И оборачиваясь к кому-то позади: – Матрёна Симанна, он его задушит. Господи, какие дурни бывают на земле!
Он стоял теперь на гребне крыши, держась за кирпичную кладку трубы, большой и смелый, в черно-голубом предгрозовом небе, и расстегнутая у ворота его рубашка оранжево горела в тягучем закатном свете. Едва понял и разжал пальцы, кот мгновенно исчез в чердачном проеме, а девушка все глядела на занятного паренька через улицу, качала головой и смеялась:
– Ну, чего вы сюда уставились! Не глядите на меня, слышите? Не велю…
Ее голос был низок, мягок, звучен: его можно было слушать век. Сеня улыбался ее гневу широко и восторженно; холодки, мурашки и льдинки струились у него по спине. Крикни она ему – лети! – он без раздумья исполнил бы ее приказание. «Тонкая какая!» – удивился он и вдруг сам испугался за нее:
– Не вылазь, ладно, не вылазь… Переломишься! Старушечья рука захлопнула окно и тотчас же задернула занавеску. Гераневое окно сразу потерялось среди всех других, столь же незначительных оконцев.
Сеня сел на гребень крыши и осмотрелся. «Тонкая какая!» – повторил он вслух и еще раз посмеялся над необычайностью события. Ветерок задувал за ворот рубашки; Сеня поднял руку застегнуть и нахмурился: двух верхних пуговиц недоставало у ворота. Потом взгляд его сам собою перекинулся на сапоги: они были тяжелы и неуклюжи. «Бочки, а не сапоги. Капусту в таких осенью квасить, вот что!» – подумал он, вспомнил карасьевские сапожки, топкой кожи, лакированными бутылочками, и огорченно покачал головой…
И точно преисподний дух, легкий на помине, в чердачное окно просунулась потная, обозленная рожа самого Карасьева:
– Ты чего тут балбесничаешь? Пошел домой! – рявкнул он, багровея от удовольствия удовлетворить потребность власти. – Чего народ внизу собираешь? Я вот задам тебе, неслуху!..
Но тут случилось нечто совершенно не предвиденное Карасьевым. Сеня засмеялся, беззлобно, но с какой-то возмутительной самостоятельностью:
– А ну, поди сюда! Я тебя, лошака ярославского, вниз скину…
– Вот и дурак! – обиделся Карасьев, не решаясь выбраться на крышу. – Я тебе заместо отца родного, можно сказать. А ты этак-то? Погоди. Я тебя, мужика, выучу, припомню!
– В поминанье пропиши! – крикнул ему Сеня вдогонку, но тот уже исчез с той же внезапностью, как и появился.
…Он долго сидел здесь. Чуть не весь город лежал распростертый внизу, как покоренный у ног победителя. Огромной лиловой дугой, прошитой золотом, все влево и влево закруглялась река. Широкое и красное, как цветок разбухшей герани, опускалось солнце за темные кремлевские башни, пики и купола… А снизу источались духота, жар, томящая, расслабляющая скука. Небо гасло, и все принимало лилово-синий отсвет тучи, наползавшей с востока. Ночь обещала грозу, и уже попыхивал молниями иссушенный московский горизонт.
Сеня обернулся. Москва быстро погружалась в синеву потемок, только диким бронзовым румянцем пылали крест и купол Никиты-мученика, что на Вшивой горке. Дальше все размывала мгла.
Напрасно ждал своего питомца Катушин, приготовивший для него последнюю свою, самую сокровенную книжку. Сеня сидел вверху, как раз над ним, чутко впитывая в себя эту непомерную торжественность закатной Москвы. Сердце его стучало быстро, четко и властно; так несется в свою неизвестность, ударяя не кованными еще копытами, молодой жеребенок по гулкой ночной дороге.
?IIІ. Петр Секретов
У Карасьева план тонкий. И крепко сшитые зарядцы смертью не обижены: как кончится Быхалов, откажет он деньги сыну, если тот к тому времени до полной трухи по тюрьмам не догниет. А лавку – кому ее и оставить, как не Карасьеву, человеку непьющему и обходительному, знающему благодетелям почесть, делу оборот, деньгам счет. Переменит Карасьев вывеску, приоткроет мясное: денежка закопит денежку, рублик погонит рублик, и выйдет из того усидчивого карасьевского нажима под старость каменный домок. И шестерки в козыри выходят: примером тому Секретов Пётр.
Из дырявой полтинки Пётр Филиппыч повелся, а помнит бородатая зарядская мелкота, как пришел он вместе с Ермолашкой Дудиным из деревни, хитроватый, рыжий, изворотливый, гнилыми грушами да квасом с лотка торговать. С Дудиным Петька в решку игрывал и на кулачках дрался, к Катушину книжки ходил читать. Был лопоух, за что и прозвали его Лопухом.
Вдруг пропал Лопух. Где Лопух? Нет Лопуха… Но осенью однажды объявилась москательная в каменной прорешке между двух домов, и вывеска утверждала безграмотно, что москательщик тут – Пётр Секретов. Лопуха в нем признали и свыклись. Стекло ли вставить, масла ли деревянного купить или рожу полюбовнику залить кислотой – шли непременно к Лопуху: у него товар свежий, с ручательством, и запросу нет.
Да раз пошла быхаловская молодайка замазки купить на зимнюю надобу, а москательни-то и нет. Досочками забита прореха, вывеска сорвана: ни товара, ни хозяина. Такая беда, пришлось брюхатой – Петром была покойница на сносях – на Москворецкую тащиться и у незнакомых покупать.
Безусые оженились, бородатых по кладбищам развезли. Слух прошел по Зарядью: желто-розовый дом Берги продают, им в гвардейском полку для поддержания чина и фамилии в деньгах нужда. Смекала голь: какого-то хозяина бог на шею посадит? Вдруг дудинская жена открыла во сне: дом Берги продали, а купил лопоухий барин, бесфамильный, неподслушанный. Дудин тогда же бабу побил, чтобы не суеверила попусту. А через неделю и приехал новый барин с женой. Пригляделись зарядцы – Лопух. Очень тогда Секретова невзлюбили, что помимо Зарядья, окольной статью в люди вышел. Впрочем, Секретов от их злобы ущерба себе не чувствовал.
Ловок был, а на дороге ему купец попался. Имелись у купца и лабазы, и мельницы, и мучные оптовки, а еще дочка Катеринка с глуповатинкой. Секретов к ней и лазил по пожарной лестнице в светелку, обаловал ее, молодую да глупую, небрежной, мимоходной лаской, а на четвертом месяце, как объявилась Катеринкина любовь, деловым, скромным образом предложил Пётр Секретов купцу честной свадебкой Катеринкин грех покрыть.
Купец только бороду почесал да усмехнулся:
– Я умен, а ты еще умней. Такими, как ты да я, вся Сибирь заселена. Бить Катьку не будешь? Прямо говори…
С той поры Секретов поважнел, кланяться перестал, люди ему – как грошики: только тогда им и счет, если в сотню сложатся. Отделал себе квартиру в доме против желто-розового владенья своего и по всем комнатам кнопки провел во избежанье вора.
… Как-то раз в двунадесятый, на безденежье, стало Дудину обидно на приятеля давнего детства. Оделся победней, в самые рваные сапоги, и пошел Петрушу, друга сердца, проведать. Пришел, встал в дверях, головенку набок, улыбается с горьким умиленьем на секретовское благолепие и покачивается, будто с пьянцой. А на самом деле был дико трезв, даже слишком для Ермолая Дудина.
Секретов за чайным столом ватрушку жевал. С одной стороны сидела беременная жена, а с другой – шурин Платон.
– Ты что ж образ-то подобие корчишь? – поднял глаза Секретов, облизывая творог с ватрушки. – Какая у тебя надобность?
– Ватрушечка-то небось вкусная? – погнулся Дудин в пояснице.